Пастораль с лебедем - [166]
Все молчали, хотя каждый собирался что-то сказать и даже, кажется, как-то сказал, только так тихо, что почти никто не услышал:
— Эх, милая…
Никанор присел на лавку, подумал: «Мде, фа Руда… Плачь, женщина, если все муки этого дня могут хоть что-то изменить в мире, плачь!..» — и медленно выпил свой стакан.
И в это самое время… Заскрипели, задергались старинные дедовские часы, пробили двенадцать раз. А это означало, что кончился день сегодняшний и начинался другой, еще неведомый — пятый и последний день Георге Кручяну.
ПОВЕСТИ
Перевод М. Ломако.
ЭЛЕГИЯ ДЛЯ АННЫ-МАРИИ
Какой горький у нас обычай — беседовать с усопшими…
Ясунари Кавабата
1
Косматится ковыль на косогоре: «ш-ш-ш-шу, ш-ш-ш-у», словно ветром растрепало гриву и земля понеслась вскачь из-под ног. Давным-давно, в детстве, я таскал домой ковыль охапками, мастерил всякую всячину. Помню, мама печку подбеливала — «шорк-шорк». Смотает на скорую руку пучок травы и елозит известкой вверх-вниз, «шорк-шорк», будто хворый в шлепанцах плетется.
А сейчас почему ковыль свиристит, боится снова охапкой сена стать? «Ш-ш-ш-шу, ш-ш-ш-у», земля голос подает…
Стелется у ног ковыль, кивает.
— Тс-с-с… тиш-ш-ше… Зачем пришел, малыш? Оставь нас в покое, и меня, и того солдата, пусть спит, ш-ш-ша… И поля здесь те же, и отары, и звенит колокольчик, как над убитым из баллады. Тишь да гладь, от веку и поныне. Говоришь, кровь… видел, как текла кровь человеческая? Ну и что? Ведь сказано было — для блага людей кровушка льется, и не раз еще прольется, милый мой. Правда, затеяли бойню такие же люди, они тоже сражались до победного, «во имя добра и во славу Отчизны». Но никого этим теперь не удивишь. А ты… глупенький ты, детка. Ну, ступай, ступай, кто старое помянет…
Погоди-ка, что тут трава бормочет? Малышом окрестила… Какой я ей малыш! Давным-давно дед, пятеро внуков, шестой вот-вот на свет появится. А было время, штудировал Иммануила Канта, набирался у старика премудрости. Или ученость не в счет и дед остался для ковыля зеленым юнцом?
— Ш-ш-ш-ша, ш-ш-ша! Ты же седой, деточка, как и я, а гляжу, все с Кантом своим в обнимку. Разве об этом надо на закате дней?.. А-а, вспомнил, верно, того солдата? Да-да, была жара и ветер, а он лежал мертвый… И я не оттолкнул его, принял честь по чести, это вы, люди, бывает, отмахиваетесь походя. Или не прав ковыль? Ш-ш-ш-ш-шу… Ну ничего, придет срок, и тебя успокою, дитятко, утешу. Твой Кант давненько уж на кладбище и сам стал ковылем-травою. Всему свой черед, и мне, и тебе…
— Хм, с каких пор трава уму-разуму учит?
— Видишь ли, детка… Ш-ш-ша… «Говорящий не знает, знающий не говорит». Слыхал про такое? Не трогай меня, не вороши старого, и ни звука. Все проходит…
Ах, вот оно что…
— Стало быть, мы — тлен и суета? Но мимолетное и тленное на земле старо, как сама земля. Приходим мы в этот мир, уходим, а я, старик, разобраться хочу, постичь — что есть человек? А что — трава. И хочется рассказать… Помнишь, тот солдат раскинулся на окровавленном склоне, и я увидел… Ну, помнишь, в то утро бросился опрометью к селу, а сердце трепыхалось с перепугу: «Там мертвый в ковыле… Вокруг ни души, а он в траве лежит. Ой, спасайте скорее, его муравьи заедят!» Добежал до околицы ног под собой не чуя, увидел у колодца Каранфила-старшего и крикнул… Чего я тогда испугался? Как растолковать тебе, трава… Что ты знаешь о страхе и боли, о памяти? И сколько еще такого, о чем никогда не узнаешь.
— Ш-ш-ш-ша… Не мути воду, помолчи…
— Уймись, трава, знай свое место. В те дни только и было разговоров в селе, что о войне да о смерти, и я выпалил второпях: «Дядя Каранфил, пойдемте со мной! Там солдат мертвый, по нему букашки бегают, кусают…»
А тот не шелохнется: «Чего вопишь, заполошный! Скажи лучше, на кого овец оставил? Ишь, разлетелся и орет посреди дороги. Что я, глухой? Или я для тебя букашка? Или тот человек букашка? Когда это мы успели стать букашками? И с чего ты взял, что он мертвый? Еще кто-нибудь его видел?»
Вспоминаю Каранфила и думаю: кто тогда из нас обоих больше смахивал на мальчишку? Ему о смерти, а он к «букашке» прицепился. Ни от годов прожитых, ни от седин и здравомыслия не стал мой дядя взрослым. Но разве это ему не к лицу? Ведь и наш великий Кант со своим «Динамизмом» похож на великое дитя. Спросите, при чем здесь Кант? О том сказ впереди…
Я успокоиться не мог, топтался, подпрыгивал:
«Да овцы же, баде Каранфил! Испугались, ей-богу, чтоб мне провалиться! Это как ехать в село Некунунаць, там солдат упал и лежит… Сами увидите! Овцы в ковыле паслись и разбежались. Чего, думаю, боятся? Пошел посмотреть, а он лежит, а по лицу мураши… Ей-богу!»
Попробуй скажи яснее, когда сердце в тебе дрожит, как птица в силках, и в голове сумбур. Овцы-то разбредутся по степи — пиши пропало, не сыщешь. Ведь три дня и три ночи гудит от канонады земля, бухают тяжелые орудия. Война началась.
Позавчера, в воскресенье, с утра пораньше вдруг истошно затрезвонили колокола, а над ярмаркой в Унгенах, над тамошним кладбищем стали рваться снаряды и шрапнель. И взмыли в воздух, к небу, коровы и овцы, прямо с недожеванной жвачкой в зубах. Были они привязаны к забору корчмы, где их новые хозяева только что звенели стаканами, благословляя будущий приплод, а теперь под оглушительный грохот все летело в воздухе — кресты, и копыта, и останки прадедов из развороченных могил…
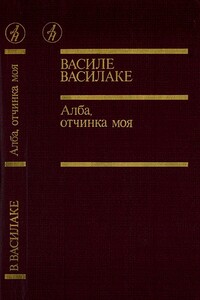
В книгу одного из ведущих прозаиков Молдавии вошли повести — «Элегия для Анны-Марии», «На исходе четвертого дня», «Набросок на снегу», «Алба, отчинка моя…» и роман «Сказка про белого бычка и пепельного пуделя». Все эти произведения объединены прежде всего географией: их действие происходит в молдавской деревне. В книге представлен точный облик современного молдавского села.

В повести Василе Василаке «На исходе четвертого дня» соединяются противоположные события человеческой жизни – приготовления к похоронам и свадебный сговор. Трагическое и драматическое неожиданно превращается в смешное и комическое, серьезность тона подрывается иронией, правда уступает место гипотезе, предположению, приблизительной оценке поступков. Создается впечатление, что на похоронах разыгрывается карнавал, что в конце концов автор снимает одну за другой все маски с мертвеца. Есть что-то цирковое в атмосфер «повести, герои надели маски, смеющиеся и одновременно плачущие.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
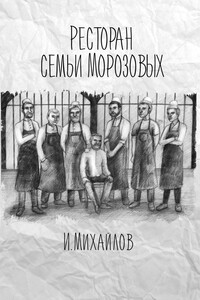
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.