Парик моего отца - [26]
Я не знала, как с ней разговаривать. Она начала стричь.
— По-моему, это большой секрет, — сказал отец, чтобы я могла опровергнуть его слова. Мои волосы сыпались мне на плечи и на пол.
— Я буду монашкой, — сказала я. Парикмахерша рассмеялась, и это мне не понравилось, так как я вообще-то хотела к ней подольститься. Монашек все время стригут.
— Или астронавтом, — сказал мой папа. — С нее станется.
И я вновь обнаружила его у себя в голове. В тепле и уюте.
Вот такой страх мне внушает Люб-Вагонетка. Меня страшит тот факт, что я слишком много знаю и все равно ничего не понимаю. Меня страшит ее лак для ногтей — на дряхлых-дряхлых руках. Меня страшит ее кабинет, заваленный загубленными пленками и их загубленными жизнями — пленками, которые полны реальных лиц и сентиментальных монтажных срезов, которые похожи на состриженные, гниющие волосы. А состригали их, чтобы сделать больно.
ЧТО ВСТАВИШЬ
Дома я включаю музыку, потому что все стены белы и потому что я скучаю по Стивену, который в этой музыке растворился. Я делаю музыку громче — пусть она, оглушительная и чистая, отмоет меня. Она заполняет белую комнату, потом врывается в меня — и затопляет весь остальной дом. Гобой, не делая паузы между частями, взбегает по лестнице и скатывается назад по перилам; разрастаясь, он оборачивается точной копией двери и отпирает замок; и от его звуков кажется, будто веселиться — самое печальное занятие на свете. Он окутывает стулья и расплющивает зеркало, он смешивается со светом, который моментально твердеет. Но едва я успела сделаться этой сотканной из музыки комнатой, которая все время расширяется, сохраняя прежнюю величину… едва я успела оказаться внутри и снаружи сразу, едва я успела окаменеть — слышится вздох, отчетливый и близкий.
В комнате кто-то есть, или в музыке кто-то есть, и меня преследует ощущение, что этот загадочный «кто-то» определенно мертв.
Опять шум — на сей раз сверху. Опять вздох у меня над ухом — В МОЕМ УХЕ. Гобой играет себе дальше, звучит чуть пожиже, чуть сконфуженно — шум сверху не дает ему расшалиться. Опять вздох, шумный, но извиняющийся — «вот он я» — и исходит он из динамиков «сидюка». Вздыхает гобоист. Если я опять поставлю эту пьесу, он, вероятно, опять вздохнет — на том же месте. Поскольку звук вздохов меня как-то не утешает, я выключаю «сидюк» и начинаю слушать тишину, которая, впрочем, еще страшнее.
Сверху доносится приглушенный шелест. Кто-то что-то волочит — вероятно, полный мешок расчлененных тел. Затем — безмолвие. Я все еще слышу дыхание, но на сей раз свое собственное — или вздохи дома, или пар, бьющий из ноздрей типа, который шурует наверху, или это тихонько сдуваются легкие трупа, который он на себе тащит.
Проходя мимо кухни, я просовываю руку в дверной проем и хватаю банку с черносмородинным джемом, ибо метательный снаряд надежнее ножа. Поднявшись на полмарша по лестнице, я слышу какой-то скрежет, сопровождаемый хлюпаньем и чмоканьем. И «шлеп» — в стенку ударяется что-то мокрое.
— Ау? — говорю я, потому что я набитая дура.
Молчание. Вновь «хлюп-чмок-ш-р-р». Вновь молчание. Ясно одно — неизвестный находится в моей спальне. По одной, как протезы, переставляю ноги со ступеньки на ступеньку, пересекаю лестничную площадку, распахиваю дверь моей комнаты.
Спальня летит стремглав: верхний левый угол, потолок, подоконник, кресло. Мои ошалелые глаза никак не сообразят, что надо остановиться и осмотреть все пристально. Впрочем, в спальне никогошеньки нет. И почему же, объясните мне, я слышу в пустой комнате неспешные шаги, которые все ближе и ближе?
— Я бы попросила.
Шаги останавливаются. Слышится уже знакомый хлюпоскрежет. На секунду мне кажется, что он исходит из моего собственного горла.
— Стивен, перестань. Это ты?
Из потолка высовывается нога. Я смотрю на нее. Из потолка высовывается вторая нога. Ноги скрещиваются. Правая пинает воздух. От этого движения из потолка вываливается торс, ненадолго зависает, упершись подмышками в перекрытия, но тут же появляются локти, плечи, голова, кисти рук и банка с краской. Все это совершает посадку на моей кровати — краска, правда, еще и заливает пол.
Стивен красил чердак.
Я смотрю на озеро белизны, которое льется водопадом с края моей постели и растекается по полу. Смотрю на свою ладонь — оказывается, я уронила джем. Смотрю на Стивена. Этот засунул в рот свой большой палец.
— У меня кровь идет, — говорит он.
— Ты этого достоин.
— Нет. Я хочу сказать: У МЕНЯ КРОВЬ.
— Где? — тут и смотреть-то не на что, жалкое алое пятнышко тонет в белизне краски, превращается в бурое.
Пора стукнуть по столу кулаком. Чтоб больше ничего не красил.
— А половицы? — говорю я. — А под половицами?
Может, он еще желает, чтобы я черепицу ободрала с крыши? И как быть с зазорами между кирпичами? Не говоря уже о канализационных трубах и том, что внутри них — со Стивена станется.
В последний раз набиваю ведро отложениями миссис Двайэр. Чек из «Остоми-продактз» на Парнелл-стрит на некую покупку, название которой я расшифровывать не хочу и вообще надеюсь, что она устарела. Стишок о родах: «Большому члену — большая корона/что вставишь, то вынешь — важней нет закона». Все это найдено в дыре над моей кроватью, между слоями обоев, наклеенных по головокружительно-косой линии — обоев с монотонным узором из золотисто-зеленых русалок, которым, как и миссис О’Двайэр, уже некуда было приткнуть мужчину.
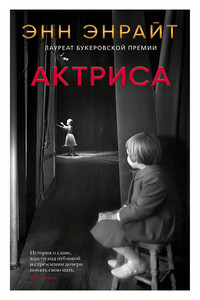
Новая книга обладательницы Букеровской премии Энн Энрайт рассказывает историю дочери, пытающейся распутать полное тайн и загадок прошлое своей матери, легенды ирландского театра.

Новый роман одной из самых интересных ирландских писательниц Энн Энрайт, лауреата премии «Букер», — о любви и страсти, о заблуждениях и желаниях, о том, как тоска по сильным чувствам может обернуться усталостью от жизни. Критики окрестили роман современной «Госпожой Бовари», и это сравнение вовсе не чрезмерное. Энн Энрайт берет банальную тему адюльтера и доводит ее до высот греческой трагедии. Где заканчивается пустая интрижка и начинается настоящее влечение? Когда сочувствие перерастает в сострадание? Почему ревность волнует сильнее, чем нежность?Некая женщина, некий мужчина, благополучные жители Дублина, учатся мириться друг с другом и с обстоятельствами, учатся принимать людей, которые еще вчера были чужими.

Сделав христианство государственной религией Римской империи и борясь за её чистоту, император Константин невольно встал у истоков православия.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Книга Сергея Зенкина «Листки с электронной стены» — уникальная возможность для читателя поразмышлять о социально-политических событиях 2014—2016 годов, опираясь на опыт ученого-гуманитария. Собранные воедино посты автора, опубликованные в социальной сети Facebook, — это не просто калейдоскоп впечатлений, предположений и аргументов. Это попытка осмысления современности как феномена культуры, предпринятая известным филологом.

Не люблю расставаться. Я придумываю людей, города, миры, и они становятся родными, не хочется покидать их, ставить последнюю точку. Пристально всматриваюсь в своих героев, в тот мир, где они живут, выстраиваю сюжет. Будто сами собою, находятся нужные слова. История оживает, и ей уже тесно на одной-двух страницах, в жёстких рамках короткого рассказа. Так появляются другие, долгие сказки. Сказки, которые я пишу для себя и, может быть, для тебя…
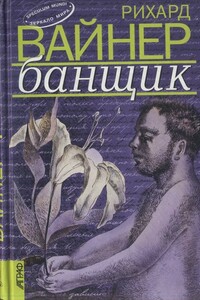
Выдающийся чешский писатель, один из столпов европейского модернизма Рихард Вайнер впервые предстает перед русским читателем. Именно Вайнер в 1924 году «открыл» сюрреализм. Но при жизни его творчество не было особенно известно широкой аудитории, хотя такой крупный литературный авторитет, как Ф. К. Шальда, отметил незаурядный талант чешского писателя в самом начале его творческого пути. Впрочем, после смерти Вайнера его писательский труд получил полное признание. В 1960-е годы вышло множество отдельных изданий, а в 1990-е начало выходить полное собрание его сочинений.Вайнер жил и писал в Париже, атмосфера которого не могла не повлиять на его творчество.
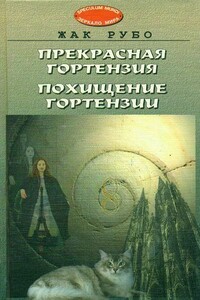
Жак Рубо (р. 1932) — один из самых блестящих французских интеллектуалов конца XX века. Его искрометный талант, изощренное мастерство и безупречный вкус проявляются во всех областях, которыми он занимается профессионально, — математике и лингвистике, эссеистике и поэзии, психологии и романной прозе. Во французскую поэзию Рубо буквально ворвался в начале пятидесятых годов; не кто иной, как Арагон, сразу же заметил его и провозгласил новой надеждой литературы. Важными вехами в освоении мифологического и культурного прошлого Европы стали пьесы и романы Рубо о рыцарях Круглого Стола и Граале, масштабное исследование о стихосложении трубадуров, новое слово во введении в европейский контекст японских структур сказал стихотворный сборник «Эпсилон».