Парень - [87]
Я начал так издалека, потому что меня не оставляет мысль: переведенная мною книга Яноша Хаи — это прозвучавший спустя сто лет (если быть точным: сто два года) отклик на «Так было» Леонида Андреева. (Отклик, разумеется, неосознанный; предположение, что Янош Хаи знает — и у нас-то почти забытый — рассказ, кажется мне крайне маловероятным[30].) Отклик — на другом (венгерском) языке, на другом национальном материале, совсем в другой манере, в другом стиле, но — отклик. Как еще один удар тех старинных башенных часов.
Леонида Андреева в свое время критиковали за неверие в возможность народа изменить свое бытие. Даже Горький, считавший Андреева своим другом, мягко, но решительно осудил подобный скепсис. Роман Яноша Хаи, который вышел спустя сто лет, ошеломляет, заставляет задуматься, но отторжения, неприятия не вызывает (такое впечатление у меня сложилось на основе доступных мне отзывов в критике). Еще бы: Андреев опирался на интуицию (ну да, еще на печальные уроки давней и далекой Великой французской революции), тогда как у Яноша Хаи перед глазами — страшный и обескураживающий опыт XX века с многочисленными попытками повернуть историю в ту или иную сторону — попытками, которые заканчивались в лучшем случае — ничем, а в худшем — миллионами трупов.
Вместе с тем видение истории Яношем Хаи не кажется мне безнадежно пессимистическим. Он пишет о низшем сословии венгерского общества, о людях, чей удел, и в старые времена, и при коммунистах, и сейчас — непосильный труд, болезни, алкоголизм, ранняя смерть. Да, смена режима, происшедшая в 1989 г., и переход из «соцлагеря» в «свободную Европу» для основной массы народа практически не принесли существенных изменений. Над страной (неважно, что это Венгрия, — это могла быть, вероятно, любая другая страна, в том числе и Россия) по-прежнему гудит: «Так было — так будет». Но на этом беспроглядно мрачном фоне мне бросилась в глаза одна особенность: в сознании этих людей, во всяком случае, некоторых из них, появилась какая-то неудовлетворенность, какая-то тоска по иной, более разумной, более человечной жизни. Подобные порывы заканчиваются ничем, — только, может быть, горше становится неизбежный крах надежд. Горше, потому что заурядный, обычный удел уже воспринимается как трагедия, — таков, например, жизненный путь центрального персонажа этой книги.
И появляется мысль: смутная тоска по чему-то иному, по человеческой жизни, — порывы эти, может быть, со временем (пускай очень-очень нескоро) перерастут в новое сознание, оформятся в волевое усилие, в жизненную программу. И тогда, возможно, реально могут возникнуть условия для изменения уклада, качества жизни…
Остается надеяться лишь, что никакие новые пламенные революционеры не сумеют воспользоваться этой тягой, чтобы руками простых людей «разрушить до основанья» существующее, а затем…
Что «затем», мы уже знаем. Проходили.
И вот еще что необходимо сказать.
Леонид Андреев все-таки чувствовал — не мог не чувствовать, — что его «особое мнение» идет вразрез с общим настроем, с господствующим состоянием умов, и потому создал для себя нечто вроде алиби, загородившись прозрачным флером исторической аналогии, благо символистская поэтика это позволяла. Яношу Хаи в этом никакой нужды нет, он пишет то, что видит в жизни, а видеть он умеет самое существенное. Отсюда — своеобразная художественная манера, в которой написан его роман: обилие случайностей в хаосе которых проступает неумолимая закономерность.
Ситуация с понятиями, обозначающими течения, направления, художественные методы в литературе, отличается большой зыбкостью. С наибольшим доверием мы относимся к понятиям, включающим в себя оценочный момент: Ренессанс, например. Или: «авангард» — хотя оценочная составляющая в этом понятии настолько неоднозначна, что с порога провоцирует к спорам, к жесткому противостоянию «за» и «против». Большинство же подобных понятий крайне условны и часто представляют собой издержки склонности к формализации наших представлений о художественном творчестве, нашего восприятия его. В критической и литературоведческой венгерской литературе прозу Яноша Хаи относят к минимализму; можно даже найти довольно логичные объяснения, почему это минимализм, — но дает ли это хоть что-нибудь для уяснения той изобразительной и философской силы, какой пропитан хотя бы данный роман? Разве что в одном этот термин полезен: он позволяет четче понять, что проза Хаи (во всяком случае, этот роман и то, что написано им в последнее время, — о его творчестве в целом я пока не готов говорить) — шаг, и большой шаг, от постмодернизма, потому что писатель не соблазняется самоцельной игрой с абстракциями, он пишет о реальном человеке, изображает реальную его беспомощность перед социальными данностями современного мира. Да, Хаи часто ироничен (в этом он, можно сказать, преемник постмодернизма), но — горько-ироничен, почти жесток в своей иронии. Та картина современной жизни, которая предстает перед нами в его книге, складывается из основательно или бегло прописанных судеб, из страданий, переживаний, трагедий людей самых различных слоев и сословий, и все эти русла и ручейки, переплетающиеся, порой словно бы уходящие в песок, создают в совокупности очень цельное — и очень нелицеприятное, чуждое всяким иллюзиям — представление о современном бытии, если угодно, о современном историческом этапе, причем не только Венгрии, но и всего нашего огромного и несчастного региона.
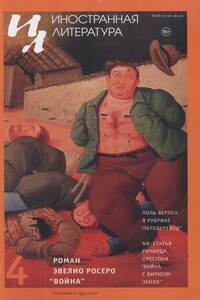
Два путевых очерка венгерского писателя Яноша Хаи (1960) — об Индии, и о Швейцарии. На нищую Индию автор смотрит растроганно и виновато, стыдясь своей принадлежности к среднему классу, а на Швейцарию — с осуждением и насмешкой как на воплощение буржуазности и аморализма. Словом, совесть мешает писателю путешествовать в свое удовольствие.
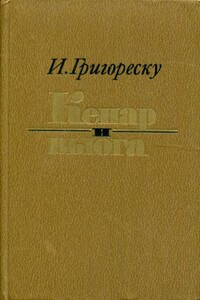
В сборник произведений современного румынского писателя Иоана Григореску (р. 1930) вошли рассказы об антифашистском движении Сопротивления в Румынии и о сегодняшних трудовых буднях.

«Песчаный берег за Торресалинасом с многочисленными лодками, вытащенными на сушу, служил местом сборища для всего хуторского люда. Растянувшиеся на животе ребятишки играли в карты под тенью судов. Старики покуривали глиняные трубки привезенные из Алжира, и разговаривали о рыбной ловле или о чудных путешествиях, предпринимавшихся в прежние времена в Гибралтар или на берег Африки прежде, чем дьяволу взбрело в голову изобрести то, что называется табачною таможнею…

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд понимает, что теперь его родной город во власти разрушительной, уничтожающей все на своем пути силы, которая не знает ни жалости, ни сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не остается, кроме как покорится новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как поступает большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с нацистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из его студентов, Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.