Память земли - [117]
Слова бабки текли ровно, привычно, — видать, она много уж раз передавала, как отходил мальчишка, томился, будто цыпленок в надбитом яичечке, как на Кореновский напер противник и она пряталась с угасающим сыном, как рубала черную банду белогвардейцев — за сына, за торжество Советов, как, заменяя сына, ездила для связи в Румчерод.
— А что это? — спрашивал Солод.
— Эк, непонятный ты. Румынский фронт, Черноморский флот и Одесса организовали ЦИК солдатских депутатов, называлось Румчерод.
Это было удивительно. Румчерод, куда на лихом коне скакала Поля, все ее бедовое боевое прошлое, а вот теперь кухня — муравьиная, расчетливая… Овчина висит просто на гвозде, а полотенце на гвозде с катушкой, чтоб не приржавело, когда повесят мокрое. На печном карнизе — каганец, по-бабкиному «лампад». Ночью, когда ставят хлебы, зажигают именно его, дабы не переводить керосин в большой лампе. Да и в самом «лампаде» фитиль экономный, тонкий, как спичка. На бочонке, накрытом дубовой плахой, оловянный корец — брать воду в чугун, а если попить — рядом маленькая кружка, чтоб не черпать лишнего. Все тускловато; лишь когда вспыхивает сухая виноградная лоза, предметы проступают ярче, даже видятся над бабкиной койкой жгут зимних цветов, бессмертников, и крохотная металлическая, всегда надраенная нашатырем иконка.
От Поли не укрывается взгляд Солода:
— Эйшь, уззрился! Эта богоматерь еще от родителей, она идиологью мою не спортит… Вдень мне нитку в иглу, у тебя глаз проворней.
Справясь, Илья Андреевич возвращал иглу и, слыша во дворе шаги Настасьи, чувствовал, что его будто ударяет током. Настасья входила, приказывала Раиске спать, ела на конце стола, а Поля, хоть не любила невестку, прислуживала ей, выполняя заведенные в доме правила.
— Ее Лексей, — говорила она Солоду, тыкая пальцем в Настасью, — был тогда дитем, скрывали мы его в хуторе Рыбалине, у своячины.
Солод пытался вникать в слова, глядеть на вертящуюся возле умывальника, отлынивающую от сна Раиску, но ему, боковым зрением, виделось лишь то, что было возле Настасьи, — ее тарелка, ложка. На лицо Настасьи он не взглядывал даже боком, смотрел, как отламывала она хлеб небольшой, будто у девчонки, рукой — смуглой и, наверно, жесткой. Он ни разу не жал эту руку, кроме того случая, когда впервые вошел в дом квартирантом. Тогда ему было все равно, и он не запомнил, какая была рука. Теперь, сидя под одним с Настей потолком, опираясь на один с нею стол, он боялся, что бабка замолчит и для него не будет причин сидеть, придется уходить к себе.
Бабка не умолкала. Ее боль об Алексее была свежей, она выкладывала каждую подробность об Алексее. Настасью это затрагивало, ревниво затрагивало и Солода, и оба, объединенные бабкой, переносились в те времена, когда одна власть грызлась с другой, одна заарестовывала другую, отчего в станицах беспрерывно гремела стрельба, а если вдруг утихала — людям в домах делалось страшно… Тыкали Щепетковы сынишку по глухим хуторам. Жил он в Рыбалине у своячины Матвея Григорича, да померла она тифом; переправили мальчонку в Челбин, к троюродному деду, а банда — два брата и отец, Кулики, стреляли через дверь в дедова сына, а убили деда, и пришлось везти мальца в хохлацкую деревню Титовку. Титовские хохлы ни с кем не воевали, говорили: нам лишь бы землица, а власть не нужна. «Хиба нам потрибно правыть?» Но заявились к ним офицеры с белыми черепами на рукавах черкесок, построили, направили пулемет: мол, не запишетесь в добрармию — ленточку скрозь вас пропустим. Они и записались.
Слушая, Настасья делала тихую работу: расщипывала комки шерсти — на одной ряднине черные, на другой белые — с трех черных и с двух белых овечек, которых каждое утро видел Солод возле сарая. Едва цокнув щеколдой, она приносила со двора набитое горой ведро снега, ставила на печь. Налипшие снаружи комья оползали, шипели на плите, и все это было для Солода самым лучшим, что знал он в жизни… А Полин голос начинал взлетать, когда речь доходила до смертных атак, до призывов Матвея перед атаками.
— «Бойцы! — бросив шитье, говорила Поля. — На светлый наш Дон со всей России слетелась золотопогонная сволочь, встала круг нас под знаменами подлого генерала Краснова!»
Глаза бабки смотрели не моргая. В старческой вспыхнувшей памяти, должно быть, звук в звук вставали слова мужа, звеневшие некогда напряженным, митинговым тенором; Поля видела, как, поднявшись на стременах, выпрямись в струну, Матвей Григория Щепетков держал речь пред войсками.
— «Вспомним, — повторяла она, — что полгода назад обещал нам Краснов? Землю!! Гляньте ж теперь в его бесстыжие очи, спытайте, то ли он поет?!»
По спине Солода шел озноб, руки Настасьи уже не расщипывали на ряднине комки, ждали.
— «Нет! — говорила Поля. — Краснов забыл ту красивую песню и поет другую, которую заставили разучить новые его господа. Он перечисляет теперь кайзеровских генералов, что дружат с ним. Он словно б… хвастается знатными клиентами, что по очереди у ней ночуют».
Возможно, в иных запавших в мозг словах Поля не разбиралась, но суть понимала всей кровью, безошибочно чуяла лютую свирепость классов, точно присягу, повторяла мужнины речи.
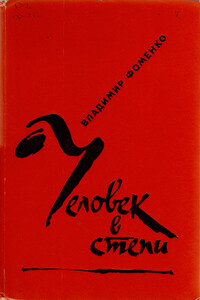
Художественная сила книги рассказов «Человек в степи» известного советского писателя Владимира Фоменко, ее современность заключаются в том, что созданные в ней образы и поставленные проблемы не отошли в прошлое, а волнуют и сегодня, хотя речь в рассказах идет о людях и событиях первого трудного послевоенного года.Образы тружеников, новаторов сельского хозяйства — людей долга, беспокойных, ищущих, влюбленных в порученное им дело, пленяют читателя яркостью и самобытностью характеров.Колхозники, о которых пишет В.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.

Два одиноких старика — профессор-историк и университетский сторож — пережили зиму 1941-го в обстреливаемой, прифронтовой Москве. Настала весна… чтобы жить дальше, им надо на 42-й километр Казанской железной дороги, на дачу — сажать картошку.

В деревушке близ пограничной станции старуха Юзефова приютила городскую молодую женщину, укрыла от немцев, выдала за свою сноху, ребенка — за внука. Но вот молодуха вернулась после двух недель в гестапо живая и неизувеченная, и у хозяйки возникло тяжелое подозрение…

В лесу встречаются два человека — местный лесник и скромно одетый охотник из города… Один из ранних рассказов Владимира Владко, опубликованный в 1929 году в харьковском журнале «Октябрьские всходы».

«Соленая Падь» — роман о том, как рождалась Советская власть в Сибири, об образовании партизанской республики в тылу Колчака в 1918–1919 гг. В этой эпопее раскрывается сущность народной власти. Высокая идея человечности, народного счастья, которое несет с собой революция, ярко выражена в столкновении партизанского главнокомандующего Мещерякова с Брусенковым. Мещеряков — это жажда жизни, правды на земле, жажда удачи. Брусенковщина — уродливое и трагическое явление, порождение векового зла. Оно основано на неверии в народные массы, на незнании их.«На Иртыше» — повесть, посвященная более поздним годам.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».