Ожерелье Мадонны. По следам реальных событий - [4]
Но сегодня ничего такого не будет, несмотря на очевидную головную боль. Я уже так долго томлюсь по ту сторону стола, что начинаю потихоньку исчезать. Начальник шумно дышит, обнюхивая рассыпанные шестеренки, за ним торчит фикус, словно телохранитель с высунутым языком. Вообще, господин — любитель природы, кабинет полон растений, за которыми он ухаживает, как за бакенбардами.
Одно растение, думаю, тропическое, — особенное: у него крупные губчатые чашечки цветков, обрамленные иголочками, уверен, что оно плотоядное. Разумеется, спросить нельзя, но начальник время от времени подпитывает мои подозрения (когда замечает, как я аккуратно обхожу растение), потому что тогда он говорит, не поворачивая головы от часов, машинки для набивки сигарет или Политики, чем он обычно бывает занят: не вздумай помочиться в этот горшок, а то, сукин ты сын, останешься без головки, и ржет, пока не зайдется в кашле.
Но сегодня я на все это смотрю с противоположного берега, пытаясь загипнотизировать попугая, сидящего на плече у Бухи, как пародийный, детский вариант Ворона. Эта птица никогда не сидит в клетке, а на свободной поперечине, всегда у открытого окна, в котором тонут облака, но никуда не улетает, объясняет время от времени хозяин, наверное, поучительно, как в басне. Папагена молчит на всякий случай. Тюремная кошка нежится на солнце.
То есть, я хочу ему сказать, головные боли по утрам мучают его из-за того, что все эти дикие, томящиеся создания дышат, мой господин, расходуют наш кислород… Вот поэтому. При условии, конечно, что у тебя нет тараканов в голове.
Приведешь мне в порядок тюремную библиотеку, ты прямо-таки создан для этого, век воли не видать, скалится господин начальник, а из угла одобрительно кивает горшечно-вазальный фикус.
Но моя аллергия, я пытаюсь остановить это тотальное сотрясение основ…
Какая еще аллергия, серьезнеет хозяин и слегка смягчает картину, трогая себя за соски, выпирающие из-под жилета.
На книжную пыль, говорю я, показывая пальцем на какой-то огромный кодекс, замерший перед господином начальником. Он же подул на книгу, злобно фыркая, и не меньше четверти кило пыли с государственного переплета взвились, поднялись, ударили меня по лицу, с силой бесплодной цветочной пыльцы. Я начинаю чихать. Вот видите.
Послушай, ты же не должен их облизывать, говорит господин Буха, слегка усомнившись, и утирается платком, ты знаешь, почему ты здесь… И что будет, если пойдут слухи…
Знаю, дяденька, шепчу я, пытаясь приложиться к его пухлой руке.
Вон отсюда, стукач, шипит господин. Охрана, охрана!
Я всегда возился с книгами. Я из тех книжных жуков-древоточцев, откладываю яйца между строк, грызу постную бумагу, зимой впадаю в спячку в корешке тощей поваренной книги. Так и представляюсь. Нет у каторжанина имени.
Но и до этого я не очень-то стремился в народ. Просто у меня нет склонности к групповухе. Да, и, когда говорю, что живу книгами, я не уверен, что слегка не привираю. Подозреваю, что именно это жизнь, и что все имеет право на существование. То есть, некоторые книги не заслужили костра.
Потому что, когда мне кто-то говорит, что все женщины прекрасны, только в них надо искать красоту, я бы с удовольствием посмотрел на него в объятиях этой милой соседки, созданной из ста килограммов, ста лет и ста процентов грязных ногтей. Каждое божие утро я смотрю на нее из окна мерзкой камеры, как она развешивает на веревке трикотажные панталоны и знамена с вышитыми на них противоречивыми лозунгами.
Да, я согласен с ней: мир нас ненавидит. Но наш мир — это то, что мы можем окинуть взором через окно. Сквозь решетки, которые его строго режут и делят. Так это бывает.
Смотрю я, значит, в зарешеченное окно, воздух сух, день прозрачен и конкретен, где-то я слышал, что так видят насекомые, фасеточно, по частям; вот, этим утром я проснулся, превратившись в жука, в воплощение Леннона с его маленькими круглыми очечками. (И так начинался один рассказ, который я никогда не закончил, но тысячу раз продал.)
Какое же насекомое имеется в виду? Книжный жук-древоточец. Говорю я.
Закрываю глаза, хотелось бы сейчас увидеть груди какой-нибудь женщины, но мне в голову приходит только та использованная соседка, как она душит знамя, выкручивая его, отжимает кошку, выстиранную в машине.
Прежде чем попасть сюда, я был распространителем. Прекрасная это работа, для любовников. Сколько сердец разобьешь, столько раз и заночуешь. И жизнь у тебя плутовская, road movie (если смотреть, как кино), загружаю свой «вартбург-караван», он громыхнет, чихнет и тронется, отличная машина и надежная, хотя скучная и строгая. Откровенно говоря, для такой работы лучше бы сгодился «мерседес»-катафалк, но таких в гуманитарной помощи нет.
(К слову, теперь у меня времени более чем достаточно, чтобы обдумать, как одеться человеку, который идет за гуманитарной милостыней в церковь, на бога которой он возводит хулу. Есть ли у него право вступать в дискуссию с религиозными активистами, перебирающими пожертвованную фасоль, о своем убеждении, что утверждение типа бог есть любовь, весьма туманно, то есть, нельзя любить абстрактно, весь мир без исключения, потому что сам он (имеется в виду и мир, и этот несчастный) ни к чему не пригоден, а менее всего годится для любви. Разве стоит глоток мыла или слипшийся комочек сахара, утекающего из ладони, как моль, чтобы промолчать в ответ на издевательский душок ненадежного «свидетеля Иеговы», распевающего библейские частушки? Но что за дилемма была первой по порядку: да, надеть ли с благоговением окровавленные тряпки, или же нечто соответствующее положению бедняги с реноме, затраханного живучим ощетинившимся государством? И как ему вести себя, когда в момент получения тощего пакета с продовольствием и средствами гигиены у него зазвонит мобильный телефон, как синекдоха бизнеса и власти, хотя известно, что его протащили контрабандой с какой-то европейской свалки? Следует ли прикинуться дурачком и оглядываться вокруг, с вызовом на физиономии:
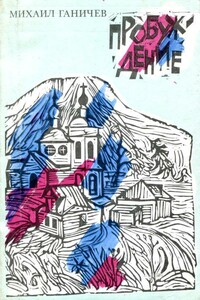
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Держать людей на расстоянии уже давно вошло у Уолласа в привычку. Нет, он не социофоб. Просто так безопасней. Он – первый за несколько десятков лет черный студент на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. А еще он гей. Максимально не вписывается в местное общество, однако приспосабливаться умеет. Но разве Уолласу действительно хочется такой жизни? За одни летние выходные вся его тщательно упорядоченная действительность начинает постепенно рушиться, как домино. И стычки с коллегами, напряжение в коллективе друзей вдруг раскроют неожиданные привязанности, неприязнь, стремления, боль, страхи и воспоминания. Встречайте дебютный, частично автобиографичный и невероятный роман-становление Брендона Тейлора, вошедший в шорт-лист Букеровской премии 2020 года. В центре повествования темнокожий гей Уоллас, который получает ученую степень в Университете Среднего Запада.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Этот роман — о жизни одной словенской семьи на окраине Италии. Балерина — «божий человек» — от рождения неспособна заботиться о себе, ее мир ограничен кухней, где собираются родственники. Через личные ощущения героини и рассказы окружающих передана атмосфера XX века: начиная с межвоенного периода и вплоть до первых шагов в покорении космоса. Но все это лишь бледный фон для глубоких, истинно человеческих чувств — мечта, страх, любовь, боль и радость за ближнего.
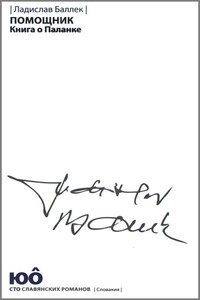
События книги происходят в маленьком городке Паланк в южной Словакии, который приходит в себя после ужасов Второй мировой войны. В Паланке начинает бурлить жизнь, исполненная силы, вкусов, красок и страсти. В такую атмосферу попадает мясник из северной Словакии Штефан Речан, который приезжает в город с женой и дочерью в надежде начать новую жизнь. Сначала Паланк кажется ему землей обетованной, однако вскоре этот честный и скромный человек с прочными моральными принципами осознает, что это место не для него…
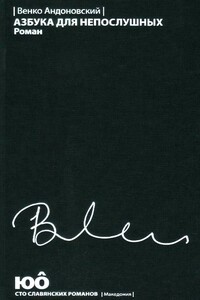
«…послушные согласны и с правдой, но в равной степени и с ложью, ибо первая не дороже им, чем вторая; они равнодушны, потому что им в послушании все едино — и добро, и зло, они не могут выбрать путь, по которому им хочется идти, они идут по дороге, которая им указана!» Потаенный пафос романа В. Андоновского — в отстаивании «непослушания», в котором — тайна творчества и движения вперед. Божественная и бунтарски-еретическая одновременно.
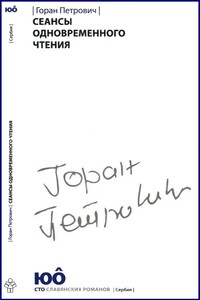
Это книга — о любви. Не столько профессиональной любви к букве (букве закона, языковому знаку) или факту (бытописания, культуры, истории), как это может показаться при беглом чтении; но Любви, выраженной в Слове — том самом Слове, что было в начале…