Отреченные гимны - [3]
Встав из-за стола, я невнятно благодарил женщину... Однако мысли мои были уже далеко.
Я знал, знал, что будет на этих пленках!
Какие-то неясные концы, какие-то недавние времена вкупе с еще не случившимися событиями внезапно увязались в голове моей в одну хлесткую словесную плеть. Обернутым назад, панорамным, но и подробным зреньем увидел я Москву, дым перед огромным зданием на берегу реки, услышал странную, ни на что не похожую музыку застав, заулков, мостов...
Потом вдруг все перевернулось с ног на голову: метнулись под ноги места здешние, южнорусские, блеснули черно-зеленые зеркальца слабопроточных, заросших кугою рек, стали вихриться, как под винтом вертолета, островки солончаковых трав, побежали по островкам кричавшие что-то снизу вверх люди, затем полыхнул синеватый огонь, мелькнул падающий невыносимо медленно, словно зацепившись за невидимую небесную проволоку, вертолет... Тайная жизнь, как строка из какого-то старинного, отвергнутого нами гимна, плеснулась на меня, лишь прикоснулся я к кассетам и (совершенно случайно) к дрогнувшим от моего прикосновения пальцам женщины.
Но главное было даже не в этом вихре картин и слов! Я знал теперь, как обозначить - не фабулу, не сюжет, не тему, - я знал, как обозначить идеальную сущность романа! Знал и то, что записанное на пленках, скорей всего, совпадет с давно трепетавшим, но не дававшимся сознанию замыслом. С тем самым замыслом, который растворялся, словно колотый сахар на дне стакана, в повестушках, рассказах.
Узнал я и женщину, которую видел дважды или трижды в Домжуре. И хотя видел мельком в толпе фланирующих журналистов, - запомнил ее и отметил. Что-то сербское, может - черногорское, вообще южнославянское было в лице ее - чуть смуглом, сладкоовальном, очень властном, но и смягчаемом царящими над легко поддернутым носом серыми, полными восторженной печали глазами...
Возвращаясь в гостиницу, я думал лишь об одном - с чего начать? Прослушать пленки? Или сразу кинуться набрасывать уже просматриваемые с тревожной радостью насквозь начальные главы романа?
Как-то само собой выбралось первое. Вытащив крохотный редакционный диктофон, я вставил туда кассету, лег, закрыл глаза, приготовился слушать стоны, крик, бессвязную речь раненого. Но ничего не услышал. Слабо стрекотала, шипела и потрескивала пленка. Затем побежал вдруг, увеличиваясь в объеме, разлетаясь шире, шире, тихий размеренный плеск.
"Море?" - удивился я. Моря никак не могло быть в том мгновенном раскладе, в том сверхсюжете, который отлился во мне.
А тонкий эфирный плеск то ли волн, то ли каких-то легчайших крыльев возрастал, становился ощутимей, острей. Затем вперебой плеску взлетел из неведомых глубин женский крик, щелкнули затвором фотоаппарата, за фотоаппаратом мягко застрекотала кинокамера, и тут же сбоку на этот стрекот и плеск, как из маленького вулкана, плеснулся рык толпы, плеснулись плач и скрежет зубовный.
- У-у-й-я-а... - ревмя ревели невидимые люди.
Сильней сжав веки, я приготовился к чему-то дурному, наихудшему.
Щелк! Враз все стихло, и мужской глуховатый баритон пророкотал умоляюще: "Глаз... глаз..." Затем уже другой, очень далекий и слабый голос, медленно и нараспев, речитативом, как хвалу, как гимн, прочел: "... ибо если жизнь души есть божественный свет, от плача по Богу происходящий... то смерть души будет лукавый мрак, мрак, мрак..."
Здесь звуки и слова оторвались от меня и, несколько раз перекувырнувшись, понеслись неведомо куда, то ли вверх, то ли вниз: так, наверное, летит то воздымаемая к тверди небесной, то обрывающаяся в адскую бездну душа.
Глаз
Глаз!
На боковой, скошенной панели кинокамеры, в специальном окошечке дергался, подрагивал и снова замирал живой, выпуклый, чуть укрупненный глаз.
Сеть красных жилок схватывала белок, выбрасывалась пучком из слезного мешка, пропадала в черном провале зрачка. Было что-то пугающе неестественное, но и притягивающее в этом, отделенном от его обладательницы, напористо снимающей возбужденную толпу, глазе. Что?
Нелепин, высокий, тонкий, изящный даже, русый, с узким ободком каштановой бороды, лет тридцати человек, - не мог этого сразу и хорошенько понять.
Хрясь! Хнысь!
От удара длинной, изогнутой оранжерейным огурцом дубинки гадко прогнулась кинокамера, отвалился объектив, а снимавшая проход в осажденный дом женщина в коричневой кожаной куртке, в широко метущей улицу юбке не удержалась на ногах и, хотя ее не били, плавно осела на землю. И только тогда, когда глаз пропал, Нелепин понял, что в этом полуприкрытом, пугливо вздрагивающем глазном яблоке было неестественным: мутновато и зыбко, но все же явственно отражался в нем далекий, сплошняком идущий пожар, отражался волокущийся за пожаром дым, - словом, отражалось то, чего рядом пока не было.
Он первым подскочил к женщине. Та, упершись одной рукой в землю, другой вяло-капризно, как в провинциальном театре, взмахивала, полубезумно улыбалась: "Оттимо грация... Кол пугно, манганелло!"
Вослед глазу лопнула, заголосила и рассыпалась битым стеклом вся площадь перед взятым в плотное кольцо зданием.
- У-у-у-я, гоп,гоп! Так ее! Бандиты!.. Сволочь!.. Бей, беее!.. неслось из-за перекрученной проволоки, от высоченных, лицованных гранитом подъездов дома, из залепленных зеленовато-черной тиной толпы переулков. Дрогнул грозно серый ящер ОМОНа, начались движенья за проволокой, у баррикад, за поставленными на ребро бетонными плитами, засновали какие-то камуфляжники, засвистали казаки, подрост-ки.
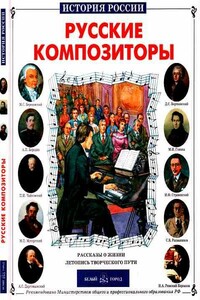
История музыкальной культуры России в рассказах о великих композиторах: Глинке, Мусоргском, Чайковском, Стравинском и других.Для старшего школьного возраста.Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ для дополнительного образования.Книги серии История России издательства «Белый город» признаны лучшими книгами 2000 года.

Это история о самом известном в мире российском композиторе, музыка которого отличается красочностью, романтичностью и необычайным мелодическим богатством. Книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста.

Российский подданный, авантюрист и прожектер Иван Тревога, задумавший основать на острове Борнео Офирское царство, по приказу Екатерины II помещен в Смирительный дом. Там он учит скворца человеческой речи. Вскоре Тревоге удается переправить птицу в Москву, к загадочной расселине времен, находящейся в знаменитом Голосовом овраге. В нем на долгие годы пропадали, а потом, через десятки и даже сотни лет, вновь появлялись как отдельные люди, так и целые воинские подразделения. Оберсекретарь Тайной экспедиции Степан Иванович Шешковский посылает поймать выкрикивающего дерзости скворца.

«Романчик» Бориса Евсеева – это история любви, история времени, история взросления души. Студент и студентка музыкального института – песчинки в мире советской несвободы и партийно-педагогического цинизма. Запрещенные книги и неподцензурные рукописи, отнятая навсегда скрипка героя и слезы стукачей и сексотов, Москва и чудесный Новороссийский край – вот оси и координаты этой вещи.«Романчик» вошел в длинный список номинантов на премию «Букер – Открытая Россия» 2005.

Борис Евсеев — родился в 1951 г. в Херсоне. Учился в ГМПИ им. Гнесиных, на Высших литературных курсах. Автор поэтических книг “Сквозь восходящее пламя печали” (М., 1993), “Романс навыворот” (М., 1994) и “Шестикрыл” (Алма-Ата, 1995). Рассказы и повести печатались в журналах “Знамя”, “Континент”, “Москва”, “Согласие” и др. Живет в Подмосковье.

Сегодня, в 2017 году, спустя столетие после штурма Зимнего и Московского восстания, Октябрьская революция по-прежнему вызывает споры. Была ли она неизбежна? Почему один период в истории великой российской державы уступил место другому лишь через кровь Гражданской войны? Каково влияние Октября на ход мировой истории? В этом сборнике, как и в книге «Семнадцать о Семнадцатом», писатели рассказывают об Октябре и его эхе в Одессе и на Чукотке, в Париже и архангельской деревне, сто лет назад и в наши дни.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.
