От философии к прозе. Ранний Пастернак - [89]
Вспоминая о том, как он преподавал Иде Высоцкой накануне роковых перемен в России, Пастернак говорит о белом пространстве классной доски, с которой не до конца стерт пройденный урок, и о еще невидимом будущем. Так, в 1930 году он сводит воедино целое сплетение тем, впервые намеченных в «Детстве Люверс»:
Не знаю, отчего все это запечатлелось у меня в образе классной доски, недочиста оттертой от мела. О, если бы остановили нас тогда и, отмыв доску до влажного блеска, вместо теорем о равновеликих пирамидах, каллиграфически, с нажимами изложили то, что нам предстояло обоим. О, как бы мы обомлели! (III: 176).
7.8. Таблица II. Столкновение обитаемых и необитаемых пространств (продолжение таблицы I, раздел 6.5)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МИР СИМВОЛОВ ПАСТЕРНАКА
ПРОЗА И ФИЛОСОФИЯ
К стилю своих ранних произведений Пастернак относился крайне критически. В последние три года жизни он искренне переживал, когда после успеха «Доктора Живаго» западные издатели, стараясь удовлетворить запросы книжного рынка, начали публиковать переводы его ранней прозы. Даже самые благосклонные критики на Западе, по его мнению, не заметили в романе того, что он считал своей главной художественной заслугой, и поэтому полагал неуместной публикацию своих ранних произведений, которые находил не только незрелыми, но и противоречащими – и эстетически, и этически – целям, впоследствии воплощенным в «Докторе Живаго».
Мы не можем обойти стороной эту суровую авторскую самооценку. И сразу же перед нами встает другой вопрос: как это откровенное неприятие раннего стиля связано с присутствием философских тем в его позднейшем творчестве? Иными словами, стараясь выявить глубинные причины, по которым автор отрекся от собственных ранних текстов, мы вынуждены вернуться не только к оппозиции метафора/метонимия, безусловно важной для символического языка Пастернака, но также и к тому факту, что именно в этих ранних текстах кроются многие из представлений, метафор и символов, характерных для его поздних работ. Соответственно, объясняя причины неприязни Пастернака к сложно-развернутым формам его первых прозаических текстов, мы как бы движемся и в обратном направлении, выявляя неожиданное присутствие ранних парадигм и тропов в рамках его позднего стиля, отмеченного прежде всего простотой выражения.
8.1. Упаковка «добра» и живые зерна смысла
Даже отдельные цитаты из его писем подтверждают, какой неожиданностью стало для Пастернака переиздание его ранней прозы. В письме к немецкому музыковеду Ренате Швейцер (декабрь 1958 года)[352] он утверждает, что интерес к этим произведениям снижает духовный накал «Доктора Живаго», поскольку эти тексты, прежде всего, выявляют общий «распад форм», характерный для начала ХХ века:
Все это носит на себе клеймо… эпохи экспрессионизма, распада формы, невыдержанного содержания, отданного на произвол случайности неполного понимания, слабого и пустого. Именно потому поднимается Ж. над всем этим, что в нем есть сгущение духа, что он является духовным подвигом (цит. по: Ивинская 1978, 329).
В июне 1959 года в письме к Наталье Сологуб он снова подчеркивает несомненную иронию происходящего, а именно что его попытки описать безумие века повлекли за собой возрождение интереса как раз к тем произведениям, которые ему особенно хотелось забыть. Вновь упоминается «распад форм»:
В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить. Как страшно и непоправимо грустно, что не одну Россию, а весь «Просвещенный мир» постиг этот распад форм и понятий в течение нескольких десятилетий. […]
Успех романа и знаки моей готовности принять участие в позднем образумлении века повели к тому, что везде бросились переводить и издавать все, что я успел пролепетать и нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания (Х: 509).
Спустя несколько месяцев в письме к Джорджу Риви от 10 декабря 1959 года Пастернак не только упоминает собственную крайне негативную реакцию на публикацию его ранней прозы, но и начинает объяснять то, что он понимает под «распадом форм», прежде всего незрелость, мертвенность и схематизм текстов:
Moe невыразимое горе и боль в том, что мне вновь и вновь напоминают, что эти редкие зерна жизни и правды перемешаны с огромным количеством мертвой, схематичной бессмыслицы и несуществующего сырья. Я удивляюсь, зачем Вы и Кайден пытаетесь спасти вещи, заведомо обреченные на гибель (Х: 550).
Столь часто повторяемое понятие «распада форм» представляет удобную отправную точку для нашего заключения, ибо даже самое поверхностное сравнение высказываний молодого Пастернака о назначении художественного творчества с теми целями, которые он ставил перед собой по ходу сочинения «Доктора Живаго», выявляет несомненный контраст подходов.
В статье «Черный бокал» (1914), как мы помним, художественный текст сравнивается с плотно упакованным набором символов – «летающим сундуком», в котором художникам удается «собирать и упаковывать добро» (V: 13–14), то есть с тем, что идеалисты-философы считали «высшим благом», «agathon». Для молодого Пастернака под данным «благом» подразумевались тщательно отобранные технические находки, образы и тропы, готовые к путешествию через века. За искусство «упаковки» он благодарил художников-импрессионистов:

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
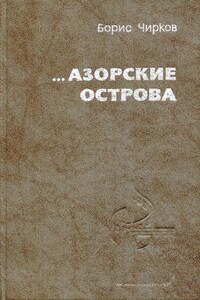
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
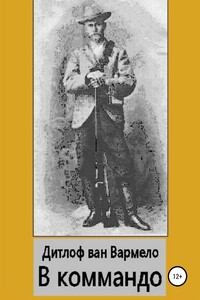
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.
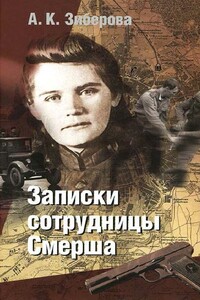
Книга А.К.Зиберовой «Записки сотрудницы Смерша» охватывает период с начала 1920-х годов и по наши дни. Во время Великой Отечественной войны Анна Кузьминична, выпускница Московского педагогического института, пришла на службу в военную контрразведку и проработала в органах государственной безопасности более сорока лет. Об этой службе, о сотрудниках военной контрразведки, а также о Москве 1920-2010-х рассказывает ее книга.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.