От философии к прозе. Ранний Пастернак - [34]
Но наряду с явным влиянием Фридриха Ницше и Александра Скрябина[123] образы хаотической действительности и клубящейся темноты ни в коей мере не являются единственным объяснением композиции рассматриваемого произведения. Даже когда хаос уже полностью охватывает пространство, Пастернак ограничивает происходящее одной строкой, которая преобразует создавшееся смятение: «Все это находилось за пределами человеческой выносливости. Все это можно было снести» (Там же). Так, наследуя модный конфликт, Пастернак не останавливается только на дионисийской ноте. Его Гейне вполне способен контролировать эту неспокойную, искрящуюся, расплескивающуюся брызгами реальность; он пробуждает ее, но он и управляет ею. Весь этот хаос оказывается не способен потревожить то изящество и ту утомленную и пресыщенную элегантность, с которой странствующий поэт, наподобие штиля в «глазе тайфуна», перемещается в растревоженном пространстве:
Тут же, об этот предел рукой подать, начинался хаос. Такой хаос царил на вокзале. […]
Место у самого окна. В последний миг – совершенно пустой перрон из цельного камня, из цельной гулкости […].
Гейне едет на авось. Думать ему не о чем. Гейне пытается вздремнуть. Он закрывает глаза (III: 9).
Спокойствие Гейне посреди напряженного и беспорядочного волнения вводится автором в текст рассказа в нескольких ключевых моментах, причем с разной степенью интенсивности. В Ферраре Гейне спит «мертвым свинцовым сном» (III: 11), а забаррикадировавшийся ставнями город тем временем пылает пламенем жизни с такой силой, что даже ковер из теней и пятен света, раскинутый у кровати поэта, охватывается воображаемым пожаром. Ковер выцветает, рассыпается от ветхости и постепенно стирается, но за окном с треском подламывается колесо тележки продавца газет. В Пизе Гейне на каждом шагу сопровождали проклятия, ругательства и нечленораздельная речь, но и в Ферраре «на улице заговариваются, клюют носом, на улице заплетаются языки» (Там же). Сам поэт остается молчалив и невозмутим. И даже когда ему удается очаровать и зачаровать Камиллу, его поцелуй словно успокаивает и вносит гармонию в ее смятение: «Поет поцелуем влекомое, поцелуем взнузданное, вытянувшееся ее тело» – и это пение тела продолжается несмотря на то, что их объятия окружает «итальянская ругань, страстная, фанатическая, как молитвословие» (III: 17).
Внутреннее спокойствие, сохраняющееся посреди почти первобытного хаоса, характерно и для понимания законов поэзии, отстаиваемых молодым Пастернаком. В стихотворениях 1913 года он с явным удовольствием играет двумя значениями словоформы «стих» (глагол «стихать» в прошедшем времени и существительное, обозначающее стихотворное произведение), чтобы описать рождение поэзии. Стихи появляются на свет благодаря как пробуждению, так и успокоению сил стихий; сам процесс действия и преобразования этих первобытных сил создает поэзию:
Впрочем, Пастернак стремится охарактеризовать пребывание Гейне в Ферраре не только через привносимое им спокойствие посреди накаляющегося напряжения. Проявление новой пока еще не изученной энергии, пробивающейся сквозь непроходимость темноты и хаоса, предполагает дар порождения поэтом нового видения – так углубляется ученичество поэта в акте восприятия, скорее синтезирующего, чем разъединяющего свободные и пока еще не собранные воедино явления.
Рождение нового синтетического восприятия, несмотря на сумятицу и бедлам окружающего мира[124], напоминает, пусть отдаленно, учение об апперцепции или трансцендентном эго, интегрирующее разноплановые аспекты видимого (понятие, которое Коген перенял у Канта (см. далее раздел 4.4)). В тексте это представляется как преобразующая энергия, рождающаяся в глубинах хаоса (пространственного, временного или эмоционального): собственно говоря, взгляд, умеющий собрать воедино разнонаправленные и многослойные реальности, и есть та самая апеллесова черта, скрытая в ткани повествования, являющаяся отличительным знаком истинного искусства, доказательства существования которого Релинквимини требует от Гейне. Причем испытать, развить в себе это новое ви´дение в вихре экстатического экспериментирования и эмоционального смятения должен не столько сам поэт, сколько его второе «я» – сторона, воспринимающая его творчество. Зарождение этого нового восприятия в других – вот единственное, на что может надеяться Гейне, стремительно уехав в Феррару, чтобы отдать себя на милость неведомому, несмотря на всю неопределенность сложившейся ситуации:
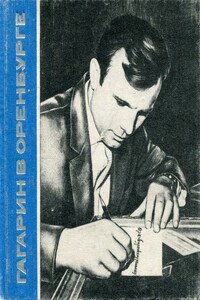
В книге рассказывается об оренбургском периоде жизни первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина, о его курсантских годах, о дружеских связях с оренбуржцами и встречах в городе, «давшем ему крылья». Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
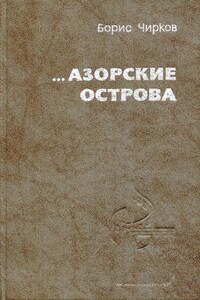
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
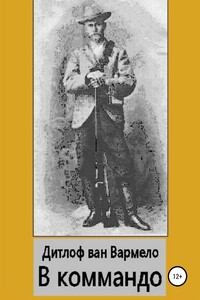
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.