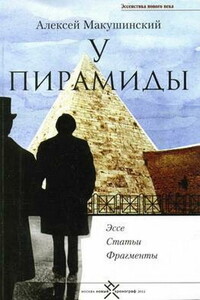Остановленный мир - [28]
Идиосинкразия интеллигенции
Докусан есть тайное ежедневное собеседование учителя с учеником. Учеником Бобовым (в патетическом смысле) я так и не сделался, но на докусан ходил, как и все остальные, отрываясь от дза-дзена, на второй этаж по вымытой мною же лестнице. Нужно было ждать возле книжных полок, с их собраниями сутр, сочинениями Судзуки первого и второго, корягами и камнями (которые брал я в руки, согревал в руках, рассматривая их кварцевые вкрапления, базальтовые прожилки), покуда не послышится из-за двери тихий и какой-то неуверенный звон Бобова колокольчика; тогда нужно было войти в докусановую комнату, поклониться Бобу, сидевшему на небольшом возвышении, опуститься на колени и опустить попку на пятки (традиционная японская поза, на мой вкус неудобнейшая), потом сложить руки перед собою традиционным, опять же, образом, с прижатыми друг к другу ладонями – так называемое гассё, – опять поклониться и произнести, всякий раз один и тот же бессмысленный текст: я – Алексей, я считаю дыхание, I am Alexei, I count my breath. А то он не знал, что я – Alexei и что I count my breath? Но это все равно нужно было повторять всякий раз, каждый день. И после этого нам уже нечего было сказать друг другу; Боб сидел на своем возвышении, как бы на невысокой эстраде, в том же вязаном свитере, тех же неджинсовых брюках, глядя на меня спокойно-сияющими глазами; такой же Боб, каким я только что видел его в столовой за поеданием вегетарианских Аникиных яств, или на кухне, где вместе со всеми он мыл иногда посуду; ничего торжественного не было во всей процедуре. Наверное, если бы я уже перешел от простого счета выдохов к решению коана (что бы сие ни значило), нам было бы о чем говорить; я бы предлагал ему свой ответ, он бы его отвергал, звонил бы в свой колокольчик – и я бы отправлялся, в отчаянии, обратно в дзен-до. Но Боб не задавал мне никакого коана, и на мою однажды высказанную робкую просьбу задать мне какой-нибудь – о собаке и «природе Будды», к примеру, каковой природой она, собака, по словам Джао-джоу, нет – му! – не обладает, вопреки всем принципам и всем учениям буддизма, – ответил, сияя глазами, с застенчивой и даже извиняющейся улыбкой, что все-таки нет – no! му! – лучше будет, если я просто продолжу считать свои выдохи, от одного до десяти, и так далее; поэтому докусан наш сводился к краткой беседе, почти даже светской, о том, как я оказался в Германии, и что делаю в жизни, и как себя чувствую здесь, на буддистском хуторе, в дзенском уединении. А я себя чувствовал, случалось, довольно скверно. Ноги и спина болели чудовищно; болели, немели; иногда и не встать было на ноги. Уже все ходили по кругу в комическом кинхине, а я все не мог подняться с подушки, все растирал ладонями пальцы и пятки. Пару раз я едва не грохнулся на пол. Никто не поддержал меня, не обратил на это внимания. Мне их внимание и не нужно было; но всегда противна телесная близость в сочетании с душевной далью. А тут близость была большая, коридорчики тесные. В шесть утра был ужас общей ванной, толкотня голых мужиков перед душевыми кабинками, напоминавшая о казарме, бане, бассейне, больнице – обо всех тех местах, которых избегал я целую жизнь, продолжаю избегать до сих пор. Еще глаза слипались, а надо было быстро-быстро принять этот душ, протолкнувшись в кабинку, почистить зубы, отодвинув от раковины соперника, чтобы в шесть тридцать уже сидеть на своей подушке в дзен-до, лицом к белой стене в пупырышках и подтеках масляной краски, которые (подтеки, пупырышки) я на второй день знал уже наизусть; в шесть тридцать и натощак смотреть на них не хотелось; еще меньше хотелось слушать невольные звуки, издаваемые сидящими рядом. Потому что урчали животы у них, в шесть тридцать и натощак, в деревенской, дзенской, целомудренной тишине; урчали, иногда мне казалось, у них у всех сразу, и в особенности у той несгибаемой спортивной тетки, которая до двух ночи просиживала в дзен-до; так громко, то в унисон, то перебивая друг друга, урчали у них вожделевшие завтрака животы, что все это чем дальше, тем решительнее напоминало концерт лягушек в каком-нибудь поганом пруду, подернутом ядовитою ярко-зеленою ряскою, и я видел внутренним взором этот пруд, эту ряску и тину, чувствуя, что сейчас станет мне дурно и что я сам до завтрака не досижу. Все это можно было вынести, но радости это доставляло немного. Я ведь в каком-то смысле типичный русский интеллигент, сказал я однажды Бобу, а русский интеллигент всегда находится в оппозиции к окружающему – это его основное, неотменимое свойство. Поэтому мне трудно не сопротивляться всему этому: этим людям здесь, всем этим правилам. Я здесь добровольно, я стараюсь я изо всех сил. А все-таки я вынужден преодолевать свое сопротивление, свое несогласие. А уж урчащие животы по утрам раздражают меня бесконечно… Вряд ли Боб разбирался в идиосинкразиях русской интеллигенции; попытка иронии тоже, наверное, от него ускользнула. Я очень боялся услышать в ответ какую-нибудь человеколюбивую банальность: эти люди здесь тоже, мол, люди, ничем не хуже тебя, а потому и нечего на них раздражаться, и вообще кто ты такой, русский интеллигент, чтобы раздражаться на кого бы то ни было? Ничего подобного я не услышал. Знаешь, сказал он, ты здесь для того, чтобы решать свои проблемы. И каждый, кто здесь находится, решает свои. Им нет дела до тебя, тебе нет дела до них. Так что не обращай ни на кого внимания. Если они тебе действуют на нервы, пойди погулять в лес.

«Пароход в Аргентину» – третий роман автора. Его действие охватывает весь 20 век и разворачивается на пространстве от Прибалтики до Аргентины. В фокусе романного повествования – история поисков. Это «роман в романе». Его герой – альтер эго автора пытается реконструировать судьбу Александра Воско, великого европейского архитектора, чья история – это как бы альтернативная, «счастливая» судьба русского человека ХХ века, среди несчастий и катастроф эпохи выполнившего свое предназначение. Это редкий случай подлинно европейского интеллектуального романа на русском языке.
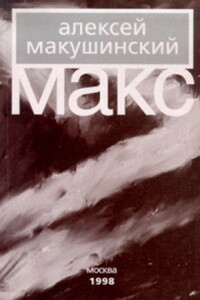
Роман, предлагаемый вниманию читателя, писался с 1985 по 1994 год и был опубликован в 1998 году в издательстве «Мартис» в Москве.Соблазн написать к нему теперь, через десять лет, предисловие довольно велик. За десять лет многое изменилось и прежде всего сам автор.Тем не менее я от этого соблазна воздерживаюсь. Текст должен говорить сам за себя, комментарии к нему излишни.
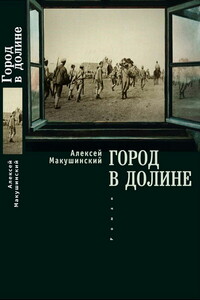
Новая книга Алексея Макушинского — роман об Истории, и прежде всего об истории двадцатого века. Судьбы наших современников отражаются в судьбах времен революции и гражданской войны, исторические катастрофы находят параллели в поломанных жизнях, трагедиях и поражениях отдельных людей. Многочисленные аллюзии, экскурсы и отступления создают стереоскопическое видение закончившейся — или еще не закончившейся? — эпохи.

В книгу живущего в Германии поэта и прозаика Алексея Макушинского вошли стихи, в основном написанные в последние годы и частично опубликованные в журналах «Арион», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Звезда», «Крещатик».Приверженность классическим русским и европейским традициям сочетается в его стихах с поисками новых путей и неожиданных решений.

Перед нами – философическая прогулка Алексея Макушинского по местам, где жили главные «герои» книги – Николай Бердяев и французский теолог Жак Маритен. Гуляя, автор проваливается в прошлое, вспоминает и цитирует поэтов, философов и художников (среди них: Лев Шестов и его ученики, Роден и Рильке, Шарль Пеги, Марина Цветаева, Альбер Камю), то и дело выныривая обратно в современность и с талантом истинного романиста подмечая все вокруг – от красных штанов попутчика до фантиков на полу кафе. Читать такую прозу – труд, вознаграждаемый ощущением удивительной полноты мира, которая, как в гомеровские времена, еще способна передаваться с помощью слов.

1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд понимает, что теперь его родной город во власти разрушительной, уничтожающей все на своем пути силы, которая не знает ни жалости, ни сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не остается, кроме как покорится новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как поступает большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с нацистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из его студентов, Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо.

Что между ними общего? На первый взгляд ничего. Средневековую принцессу куда-то зачем-то везут, она оказывается в совсем ином мире, в Италии эпохи Возрождения и там встречается с… В середине XVIII века умница-вдова умело и со вкусом ведет дела издательского дома во французском провинциальном городке. Все у нее идет по хорошо продуманному плану и вдруг… Поляк-филолог, родившийся в Лондоне в конце XIX века, смотрит из окон своей римской квартиры на Авентинский холм и о чем-то мечтает. Потом с риском для жизни спускается с лестницы, выходит на улицу и тут… Три персонажа, три истории, три эпохи, разные страны; три стиля жизни, мыслей, чувств; три модуса повествования, свойственные этим странам и тем временам.

Герои романа выросли в провинции. Сегодня они — москвичи, утвердившиеся в многослойной жизни столицы. Дружбу их питает не только память о речке детства, об аллеях старинного городского сада в те времена, когда носили они брюки-клеш и парусиновые туфли обновляли зубной пастой, когда нервно готовились к конкурсам в московские вузы. Те конкурсы давно позади, сейчас друзья проходят изо дня в день гораздо более трудный конкурс. Напряженная деловая жизнь Москвы с ее индустриальной организацией труда, с ее духовными ценностями постоянно испытывает профессиональную ответственность героев, их гражданственность, которая невозможна без развитой человечности.

«А все так и сложилось — как нарочно, будто подстроил кто. И жена Арсению досталась такая, что только держись. Что называется — черт подсунул. Арсений про Васену Власьевну так и говорил: нечистый сосватал. Другой бы давно сбежал куда глаза глядят, а Арсений ничего, вроде бы даже приладился как-то».

В этой книге собраны небольшие лирические рассказы. «Ещё в раннем детстве, в деревенском моём детстве, я поняла, что можно разговаривать с деревьями, перекликаться с птицами, говорить с облаками. В самые тяжёлые минуты жизни уходила я к ним, к тому неживому, что было для меня самым живым. И теперь, когда душа моя выжжена, только к небу, деревьям и цветам могу обращаться я на равных — они поймут». Книга издана при поддержке Министерства культуры РФ и Московского союза литераторов.

Жестокая и смешная сказка с множеством натуралистичных сцен насилия. Читается за 20-30 минут. Прекрасно подойдет для странного летнего вечера. «Жук, что ел жуков» – это макросъемка мира, что скрыт от нас в траве и листве. Здесь зарождаются и гибнут народы, кипят войны и революции, а один человеческий день составляет целую эпоху. Вместе с Жуком и Клещом вы отправитесь в опасное путешествие с не менее опасными последствиями.