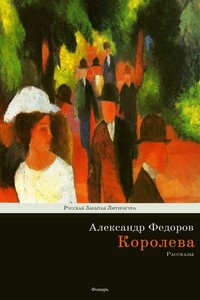Осенняя паутина - [30]
Ещё коньяк не допит. Рядом с бутылкой, на месте разбитой, другая, сухая рюмка. Машинально наливает в неё коньяк, пьёт, и только тут соображает, что ему нечем заплатить даже за это вино. Тем смешнее.
Он оглядывает зал, почти опустелый: лакеи, усталые, зевают в углах, и с сонными глазами, как автоматы, идут на зов. Дым несколько разошёлся, но огни лампочек тусклы, как сонные глаза лакеев.
Он медленно огибает стол. На него не обращают внимания: глаза устремлены на руки счастливого банкомёта.
Подошёл к банкомёту, опустил руку на спинку его стула.
Тот оборачивается, выпрямляется, думает, что с ним хотят проститься:
Он, особенно изысканно и приветливо улыбаясь, говорит:
— Садитесь.
Банкомёт, не сводя с него вопросительных глаз, опускается. Рука со стулом беззвучно отходит в сторону, и толстое, пухлое тело жениха опрокидывается на спину.
Тишина.
Затем раздаётся взрыв невольного смеха.
Поэт, с лицом белого негра, бросился поднимать багрового, все ещё барахтавшегося парфюмера.
Он на ногах. Злобным растерянным взглядом окидывает всех и останавливает его на виновнике.
Тот продолжая изысканно улыбаться, держит на отлёте за спинку стул, который также нагнулся, как бы в грациозном поклоне.
— Это безобразие!
— Скандал!
— Пьяная выходка!
— Позвать старшину!
— Удалить из клуба!
Но все это негодование выражается крайне двусмысленно, точно по обязанности, сквозь трудно подавляемые улыбки.
Они спешат к пострадавшему, окружают его, заботливо спрашивают, не ушибся ли он? Выражают преувеличенную готовность удержать его, если он пожелает броситься на скандалиста. Только декоратор стоит и, качаясь от смеха, смотрит то на одного, то на другого.
Но оскорблённый не думает лезть в драку. Он, слава Богу, не пьян и не станет скандалить в публичном месте. Он только требует, чтобы виновного удалили из клуба, а там он сумеет с ним сосчитаться.
Но старшины нет. Ведь уже утро. И никто не хочет добровольно взять на себя обязанность предложить ему удалиться.
Доигрывающие за двумя-тремя столиками просят им не мешать.
Не надо старшины. Он уйдет сам.
Все ещё продолжающий смеяться, декоратор берет его под руку, и они идут к выходу.
Высокий, лысый офицер стоит у окна, слегка отстранив тяжелую занавеску.
На минуту остановились. Сероватый свет упал из-за занавески и заставил вздрогнуть весь воздух в комнате. Ночь, как блудница, таилась здесь, и этот светлый ангел дня застал её врасплох и принудил побледнеть от стыда.
Он был поражён: уже утро!
— А вы что же думали?
— Я и не заметил.
Тот останавливается перед ним на площадке у лестницы, всплескивая руками, ударяет ими себе по кривым коротким ногам.
— Чистое дитя. Ну, ну!
И снова разражается смехом, от которого трясется золотая цепочка на его животе.
В другое время такая выходка могла бы обидеть, но сейчас он слабо и жалко улыбнулся. Этот чудак прав: он заслужил такое отношение к себе.
— Послушайте, — фамильярно обращается к нему тот, — когда вы ещё только пришли, я заметил, что вы не в своей тарелке, и знал почему. Ну, да. Прежде, чем поехать от вас к тому, она заехала ко мне, как к старому другу, посоветоваться. Ну, да, что вы так таращите на меня глаза, точно я привидение. Эх, дитя. Я ей такой же кузен, как и вы. Я виноват во всей истории. Я вас познакомил с нею, и теперь вы из-за этого проигрались. Ergo — вы должны бы взять у меня проигранные деньги.
Это было уж слишком.
В первую минуту он был страшно ошеломлён этим новым открытием и оскорблён нелепым предложением. Видел, как сквозь сон, потное, пьяное лицо и оно внезапно стало омерзительно ему. Он точно вдруг проснулся, пришёл в себя. Вобрав отяжелевшей грудью воздух, он на мгновение опустил ресницы и затем взглянув на своего собеседника с такой ненавистью, что тот опешил.
V
Когда он вышел на улицу, за ним как будто остался отвратительный сон.
Было раннее утро, ещё сыроватое, но теплое, прекрасное, как всякое утро после бессонной ночи. И было как-то неловко его ясного, чистого взгляда и открытого лица, и кроткого венчика на его челе. И свет его колол воспалённые от бессонницы и дыма глаза.
Звонили к ранней обедне, и никогда ещё колокольный звон не казался таким благодатным и мирным.
Ехали извозчики и попадались навстречу люди. Раннее утро, восход солнца — это достояние трудовой бедноты; попадались все больше люди бедно одетые. Из того круга, к которому принадлежал он, встречались только те, которые, подобно ему, не спали всю ночь.
На небольшой красивой площади, откуда открывался порт, он остановился, залюбовавшись морем, и вдруг закачал головой от неизбывной жалости к себе.
Туман ещё стоял над морем, кое-где, как осадок сна, но уже открывались лиловые дали, умиротворяющие и зовущие. Множество судов сушили серые, отяжелевшие от влаги паруса, и красные полосы на пароходах подчёркивали холодную зелень воды.
Заревел один пароход. В разрез с ним рявкнул другой, и в их нестройном рёве было что-то важное, дружеское.
Вот они покинут пёстрый порт и пойдут... Может быть, в Индию, в Австралию, на Азорские острова. Ясно припоминался аромат фруктовой лавки. И к обычной приятной тоске, которая охватывала его при этих впечатлениях, подошла каменная безнадёжность, незнакомая до этого времени, предчувствие неизбежного конца, навсегда пресекающего все такие волнующие мечты.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
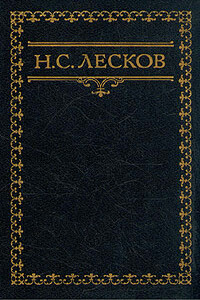
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
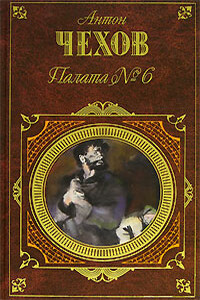
В книгу вошли повести А.П.Чехова (1860–1904) «Степь», «Палата № 6», «Дуэль», «Скучная история» и др. Мотивы тоски существования и гнетущей действительности, часто и пронзительно звучащие в повестях Чехова, оттеняют остроту и сложность переживаний их героев. Тонкий психолог и мастер подтекста, А.П.Чехов обнажает самые потаенные области сознания, создавая не спектакль персонажей-марионеток, но драматургию человеческих душ.
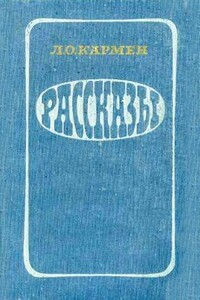
В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват… Его все знали в Одессе, знали и любили». И… забыли?..Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
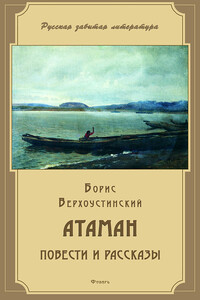
«Набережная Волги кишела крючниками — одни курили, другие играли в орлянку, третьи, развалясь на булыжинах, дремали. Был обеденный роздых. В это время мостки разгружаемых пароходов обыкновенно пустели, а жара до того усиливалась, что казалось, вот-вот солнце высосет всю воду великой реки, и трехэтажные пароходы останутся на мели, как неуклюжие вымершие чудовища…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повести и рассказы разных лет: • Атаман (пов.
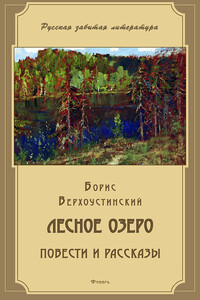
«На высокой развесистой березе сидит Кука и сдирает с нее белую бересту, ласково шуршащую в грязных руках Куки. Оторвет — и бросит, оторвет — и бросит, туда, вниз, в зелень листвы. Больно березе, шумит и со стоном качается. Злая Кука!..» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повесть и рассказы разных лет: • Лесное озеро (расс. 1912 г.). • Идиллия (расс. 1912 г.). • Корней и Домна (расс. 1913 г.). • Эмма Гансовна (пов. 1915 г.).

«Осенний ветер зол и дик — свистит и воет. Темное небо покрыто свинцовыми тучами, Волга вспененными волнами. Как таинственные звери, они высовывают седые, косматые головы из недр темно-синей реки и кружатся в необузданных хороводах, радуясь вольной вольности и завываниям осеннего ветра…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повесть и рассказы разных лет: • Перед половодьем (пов. 1912 г.). • Правда (расс. 1913 г.). • Птица-чибис (расс.

Михаил Владимирович Самыгин (псевдоним Марк Криницкий; 1874–1952) — русский писатель и драматург. Сборник рассказов «Ангел страха», 1918 г. В сборник вошли рассказы: Тайна барсука, Тора-Аможе, Неопалимая купина и др. Электронная версия книги подготовлена журналом «Фонарь».