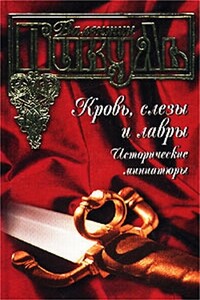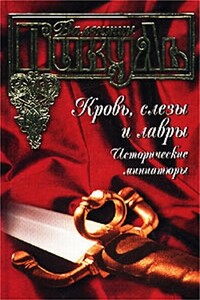Орёл умирает на лету - [9]
— Полкило грязи, продолжай в таком же духе. Белье не получишь.
Саша, сердито сопя, потянулся за грязной тельняшкой. В нем заговорило упрямство. Он не намерен танцевать под чужую дудку, пусть зарубят себе на носу.
— Положь на место, — скомандовал карнач, с жестом отвращения отобрав грязную тельняшку.
Это возымело действие.
Новичку пришлось вернуться в баню. Саша ожесточенно тер уши, проклиная их и заодно караульного начальника.
Новым осмотром Еремеев как будто остался доволен. Новичок сердито натянул на себя мягкое белье, пахнущее мылом и еще какими-то лекарствами. Но глаза его невольно засияли от блаженства.
Тут произошло еще одно непредвиденное столкновение. Саша, уже нарядившись во все новое, старательно стал заворачивать в газету свою грязную тельняшку, но Еремеев запротестовал:
— Еще чего придумал? Оставь.
— Так тебя я и послушался.
Карнач, неожиданно смягчаясь, спросил:
— На что она тебе сдалась, морячок?
— Дареная, — соврал Матросов. Ему льстило, что его называют морячком.
— Вообще мы сжигаем такую память, — усмехнулся Еремеев. — Ну, коли тельняшка дареная, доложу по инстанции, может, как исключение, разрешат оставить... Чего уставился волком? Таких, как ты, мы тут навидались будь здоров...
В дежурной комнате, куда привели Сашу, горела лампа с зеленым абажуром, поэтому лицо воспитателя Бурнашева казалось болезненно-бледным. Он, выслушав доклад карнача, кругом обошел Матросова, стоявшего в небрежной позе, этаким ухарем-купцом. Мальчишка издавал притворные вздохи, словно, издеваясь над всем этим церемониалом. Бурнашев понимающе переглянулся с дежурным. «Новичок накликает на себя неприятности», — как бы говорил он. Но сказал о другом:
— Гимнастерка не по росту, сменить. На две недели в карантин.
Только после этого Бурнашев удосужился заговорить с новичком:
— Общение с другими колонистами до истечения этого срока категорически запрещается. Заявления, если они будут, передавать через дневальных. С тобой будет еще один новичок. За чистоту и порядок в комнате отвечаете оба. Вот как будто и все. Идите, Еремеев!
Карантин размещался в отдельном домике, за оградой. Он казался приплюснутым и жалким. До того был невзрачным и неуютным, что сказать невозможно.
Мальчишкой овладела дикая тоска, просто выть хотелось. Когда перешагнули порог, Еремеев показал на одну из двух свободных коек, третья была занята.
— Располагайся.
— А как со жратвой?
— Получишь завтра...
Как только захлопнулась дверь за карначом, бросив на чистую простыню телогрейку, выданную взамен старой шинели, Саша грузно опустился на койку. Ноги дрожали после ночного похода по оврагам, тело ныло, точно после потасовки. Посидел, молча зевая. «Сэкономили на жратве», — подумал он, почувствовав, как сосет в брюхе.
Клонило ко сну. Скинул ботинки, темно-серые брюки, остался в одном белье. Давно вот так не ложился спать. Теперь можно дать храпака. Сколько влезет.
Тут он почувствовал на своей спине чей-то пристальный взгляд. Сперва подумал: может, плюнуть? Небрежно обернулся. Через койку от него лежал какой-то пацан, почти до шеи укутавшийся байковым одеялом. Из-за выпученных глаз и из-за крючковатого носа казался он нелепым грачонком. Такой смешной тип попадается один на миллион.
— Наше вам с кисточкой, — важно пробурчал замухрышка. — Меня можешь звать Директором. Мишка Директор.
Он повел разговор на вымирающем блатном жаргоне. Сашу, конечно, не удивишь всеми этими «бочатами», «атандами» да «мойками». Чего уж тут, одно баловство.
— Сашка, — нехотя ответил он.
Директор жужжал, словно муха под знойным солнцем. Сиповатым голосом он стал выведывать: откуда, за что, как попал и по какой графе...
Матросову надоели допросы да расспросы. Он, не отвечая соседу, с удовольствием растянулся на койке, с головой закрывшись рыжим одеялом.
За окном уныло выл ветер, он принес откуда-то призывный звон колокола. В стекло стучались сухие ветки. Только и спать, но Директор продолжал бубнить.
— Здесь ничего себе, говорят, жить можно... Строгость не так чтобы очень... Кто хочет, может приспособиться.
— Приспособиться? — сонным голосом с расстановкой спросил Матросов.
Директор не давал ему заснуть. Саша в этот час никого не хотел видеть и слышать: ни воспитателя с блестящей плешиной, ни преисполненного долга карнача, ни этого проклятого Директора, прожужжавшего все уши. Пустой болтовней на блатном жаргоне Директор пытался пустить пыль в глаза. Знакомый прием! Саша видел его насквозь. Когда Директор, не удовлетворившись болтовней, нечаянно дотронулся до его плеча, Матрос выругался:
— Заткнись!
Этим неожиданно сорвавшимся с губ криком он выразил всю свою печаль, не дававшую ему покоя.
Ночью Саше снились нелепые сны: то Директор превращался в бородатого и, высунув язык, дразнился: «Ах, Матрос, на море потянуло!», то Бурнашев, лысый нравоучитель, в одежде монаха взбирался с веревкой на шее на одинокий и большой дуб, растущий возле самых главных ворот.
Под чистой простыней метался и стонал человек.
Сашу, по-видимому, разбудил сиплый голос соседа.
— Нас теперь вроде бы трое.
Хорошо отдохнув за ночь и как-то примирившись со своей новой судьбой, Саша был настроен в это утро более или менее благодушно.
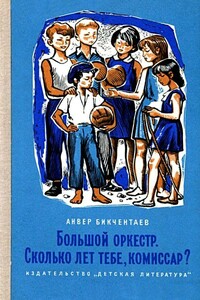
Две повести известного детского писателя. Первая рассказывает о ребятах, живущих в большом городском доме. Вторая повесть о маленьком отважном партизане, смелом башкирском мальчике. Вступительная статья знакомит с жизнью и творчеством писателя. Художник Аркадий Александрович Лурье.

Обе повести рассказывают об уфимском мальчике Азате Байгужине и других подростках, проявивших смелость и отвагу во время Великой Отечественной войны. Поздней осенью 1942 года мальчишка оказался на военной дороге. Совсем один! Прослужив по року судьбы денщиком у полицаев, Азат попадает в партизанской отряд и становится адъютантом командира Оксаны Белокурой. Нелегкие испытания, выпавшие на долю маленького героя, воспитывают в нем мужественного защитника Отечества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новеллы А. Бараша (1889–1952), писателя поколения Второй алии, посвящены судьбе евреев в различные периоды истории народа.

Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.