Оранжерея - [39]
Все еще не желая верить, Блик исподлобья молча глядел на Матвея. Его руки делали безотчетные укромные движения, напоминающие жест, каким профессиональные шулера и конферансье проверяют, на месте ли запонки. В это время за стеной глухо заиграла гармонь. Затем приоткрылась дверь, и в проем просунул голову уже переодетый в сюртук Ногайцев.
— Александр Илларионович, прошу прощения: репетиция началась, — быстро сказал он и втянулся обратно.
Блик не обратил на эти слова никакого внимания. От зашторенных окон на его лицо падала косая тень, скрывая выражение его светлых глаз. Впрочем, Матвей старался на него не смотреть.
— Я... — начал Блик, но его голос осекся. — Я этого так не оставлю... — с трудом ворочая языком, продолжил он. — Ах какие скоты, какие...
— Не надо, Саша, я и так уже жалею, что сказал тебе.
Матвей поднялся.
— Что можно сделать для его семьи? — спросил Блик, удерживая Матвея за рукав.
— Что ты можешь сделать, Саша? Не знаю. Сам реши.
Матвей похлопал его по мягкому плечу и вышел вон.
VI
ДРЕВО ЯДА
Когда Матвей Сперанский вышел из театра, уже стемнело. Слабо, будто через силу, горели невысокие фонари. Тускло блестели подмерзающие по краям черные лужицы. Было свежо и гулко. Легко дышалось. Несколько неподвижных фигур, состоявших, казалось, из одних покатых спин, обступили уличного гитариста, с подчеркнутым безразличием (дескать, мне и здесь хорошо) сидевшего на развалившемся крыльце перекошенного грязно-желтого здания, давно (с 1916 года, если верить памятной доске) разбитого параличом, — в двух шагах от гостеприимно-пустой тонконогой скамьи. «Ой, ё! Ой, ё!» — наигрывая протяжный мотив, страдальчески вскрикивал он нарочно сорванным голосом, то ли жалуясь на что-то, то ли, напротив, сердясь. Слушавшие его люди, окоченев от безделья и тоже желая погорланить, нестройно подвывали ему, и это ямщицкое, безнадежно-дорожное и совершенно неуместное «ё» было первым, что услышал Матвей, ступив на заплеванную мостовую. Автомобилей в тихом Стряпчем переулке, всецело предназначенном для прогулок и подношений Мельпомене, не было, зато имел место преизбыток потускневших мозаик, грубых настенных барельефов (тонущий, чайка) и разновеликих, кустарно сработанных вывесок, суливших прохожим райскую жизнь среди ломбардов, нотариальных контор, меняльных лавок, зубоврачебных кабинетов и закусочных. Вообще, было слишком много неподвижного кругом: здания с полинявшими, обносившимися фасадами (в то время как над их крышами мощно ходили айвазовские тучи), облупившиеся бесформенные фризы, поднявшие локти деревья, чьи патетические позы наводили на мысли об Эсхиле, наемных плакальщицах и плененных царевнах, пустые, негостеприимно-хладные скамьи с мелким человеческим сором в щелях, оставленная на самом краю ступеньки пустая пивная бутылка, такая хрупкая, такая почти изумрудная в неверном уличном свете, и еще («Ой, ё!» — но уже чуть тише) — недавно водруженный в сторонке, за углом серого псевдоклассического здания, на шаг выступившего из общего ряда, бронзовый памятник Чехову (не совсем на виду, зато меньше дует), неловко присевшему на какой-то выступ в позе студента перед экзаменом, обреченно ждущего своей очереди в коридоре. Там еще была совсем неподвижная и неудобная (так как буквы все время загибались за край) афишная тумба, по кругу обклеенная бесцветными лицами модных лицедеев, предлагавших полный набор утрированных эмоций: от ажитации до ярости и экзальтации, граничащей с бешенством. Она восторженно зазывала на премьеру новой «искрометной» комедии «Конец света и другие неприятности», и для завлечения «зрителя» все средства были хороши: и полная женская грудь навыкате из декольте, и завидная роскошь «шикарных» костюмов «с иголочки», и пачки бутафорских ассигнаций в чемодане, и праздничный стол с исходящим пеной шампанским, и мужественный силуэт усатого фата на заднем плане. Но вот, наконец, в переулке наметилось некоторое оживление: подул промозглый ветерок, и, развеивая мечты, развенчивая надежды, начал срываться мелкий колючий снежок, а через большую прореху в туче с тупой трезвостью сторожевого прожектора на Матвея уставилась бледно-розовая луна.
То ли от смены погоды, то ли из-за начинавшейся простуды, а может быть, оттого, что искусственный свет падал на стены как-то непривычно рельефно, город казался Матвею особенно косным и нелепым. Казалось, в нем не сыскать ни одного прямого угла, ни единой четкой линии, ни прочного поручня, ни гладкой кладки. Когда ему на ум приходили подобные мысли и обычные предметы, вроде караула каменных урн перед черной ямой подворотни или скипетры фонарных столбов с мутными колбами млечного света, начинали казаться невиданными дивами, Матвей уже знал, что к ночи его потянет сочинять, а к утру у него будет температура и насморк Сочинять — изобретать, вымышлять, придумывать, творить умственно, производить духом, силою воображения...
— Слышь, дружище, выручил бы, штоли, на хлеб не хватает, — отделившись от стены, умоляющим басом обратился к Матвею какой-то пропойца в обдерганном пальтеце. Приостановившись, Матвей молча сунул во тьму бумажную мелочь и, нагоняя ритм ровно шедших мыслей, продолжил так же не торопясь идти по брусчатке мостовой в сторону огней и шума Тверской.

Литературная деятельность Владимира Набокова продолжалась свыше полувека на трех языках и двух континентах. В книге исследователя и переводчика Набокова Андрея Бабикова на основе обширного архивного материала рассматриваются все основные составляющие многообразного литературного багажа писателя в их неразрывной связи: поэзия, театр и кинематограф, русская и английская проза, мемуары, автоперевод, лекции, критические статьи и рецензии, эпистолярий. Значительное внимание в «Прочтении Набокова» уделено таким малоизученным сторонам набоковской творческой биографии как его эмигрантское и американское окружение, участие в литературных объединениях, подготовка рукописей к печати и вопросы текстологии, поздние стилистические новшества, начальные редакции и последующие трансформации замыслов «Камеры обскура», «Дара» и «Лолиты».
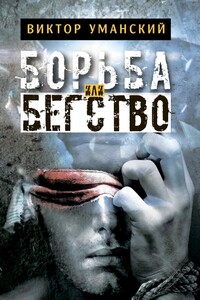
Что вы сделаете, если здоровенный хулиган даст вам пинка или плюнет в лицо? Броситесь в драку, рискуя быть покалеченным, стерпите обиду или выкинете что-то куда более неожиданное? Главному герою, одаренному подростку из интеллигентной семьи, пришлось ответить на эти вопросы самостоятельно. Уходя от традиционных моральных принципов, он не представляет, какой отпечаток это наложит на его взросление и отношения с женщинами.

Спасение духовности в человеке и обществе, сохранение нравственной памяти народа, без которой не может быть национального и просто человеческого достоинства, — главная идея романа уральской писательницы.

Перед вами грустная, а порой, даже ужасающая история воспоминаний автора о реалиях белоруской армии, в которой ему «посчастливилось» побывать. Сюжет представлен в виде коротких, отрывистых заметок, охватывающих год службы в рядах вооружённых сил Республики Беларусь. Драма о переживаниях, раздумьях и злоключениях человека, оказавшегося в агрессивно-экстремальной среде.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Ник Уда — это попытка молодого и думающего человека найти свое место в обществе, которое само не знает своего места в мировой иерархии. Потерянный человек в потерянной стране на фоне вечных вопросов, политического и социального раздрая. Да еще и эта мистика…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.