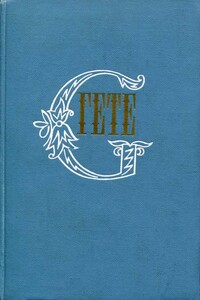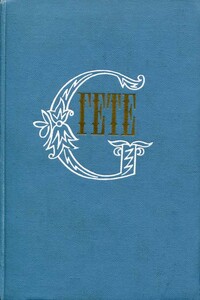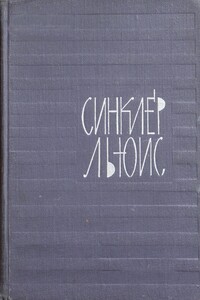Очень мне нравятся также ссылки неизвестного то на Европу, то на графа Льва Толстого. Один раз Европа ничего не значит, другой раз, тут же, только несколькими строками ниже — она все значит. Раз он говорит: «Как был понят в Париже Верещагин, нам до этого нет никакого дела». Вот и прекрасно; человек твердый, независимый, на одного себя опирающийся. Но капельку пониже: «Попробуй Верещагин показать французов в таком же виде (как русских), они заговорили бы не то, и были бы правы». А еще: «В Париже имели право говорить, вот они, какие русские, посмотрите, даже пленных морозят, о, варвары: и еще дальше: «Верещагин остерегся представить картины индийского быта, которые бы кололи глаза англичанам». Но, позвольте спросить, если вам никакого нет дела до того, как был понят Верещагин за границей, какое же вы после того имеете право еще ссылаться, одну секунду позже, на тех же французов и англичан, насчет того, как бы они приняли те или другие картины Верещагина, как бы на них посмотрели. Дела нет до Европы, так не извольте уж о ней и рот разевать.
Вот-то логика! А главное: какое миленькое, хорошенькое обвиненьице Верещагина в подхалюзничестве и прихвостничанье перед французами и англичанами. Тех, мол, трусишь и с ними ухо держишь востро, а нам — валишь что ни попало, что ни взбредет в бестолковую голову! Да ведь опять тут налицо старинный Тютрюмов: «У Верещагина, дескать, одно только на уме и есть — деньги, деньги и деньги, он об одном только и думает, как бы половчее сбыть картины». Да, да, это все у того самого Верещагина, который от великой жадности к деньгам делает даровую выставку вот уже в третьем конце Европы и платит бог знает какие тысячи рублей за перевозку своих тысячей пудов! У того Верещагина, который, чтоб удачнее продать свои подхалюзные картины французам и англичанам, перед началом выставок в Париже и Лондоне печатно объявлял, что картины не продаются!
Нет, посмотрите, какую неслыханную логику громоздит с досады, что ли, или, может быть, чтоб кому-то понравиться, неизвестный писатель «Нового времени». Картины Верещагина у него — и тенденция, и сатира, и атмосфера, в которой задыхаешься, и классическая трагедия, и мелодрама — и я уж и не знаю, что такое. Помня тон и пример своего оригинала, Тютрюмова, писатель «Нового времени, корит Верещагина даже за то, что у него есть средства „всякий этюдец вырисовать, вставить в красивую рамку и собрать нечто целое, свою поэму, свой роман“. Вот-то напасть! Уж и красивые рамки помешали, уж и они в вину поставлены, точно будто даже самый последний нищий живописец выставлял когда-нибудь свои этюды без рам. Несчастный неизвестный даже и того не знает, что не один Верещагин выставлял разом целые массы своих произведений; это делали и другие, например, хоть бы Курбе — да и не он один.
На графа Льва Толстого тоже очень хороши ссылки, нечего сказать. Граф Лев Толстой теперь уж обратился, для писателя „Нового времени“, в колотушку, чтоб по головам бить тех, кто не нравится. Кто сомневается, что Лев Толстой великий писатель? Но кто же сказал, что все должны создавать свои произведения только на его манер, и ни шагу в сторону? Что у него есть, то непременно и все другие подавай, а не подали — сейчас хлоп по голове. На, мол, тебе, зачем ты не Лев Толстой! И просто, и умно.
Но лучше всего то, что именно Верещагин более чем кто-нибудь на свете имеет родство именно с Львом Толстым по своему взгляду на войну и на тех, кто ее производит. Оба они уже давно покончили с Ахиллесами и Агамемнонами, которых так хочется неизвестному писателю; оба они давно не веруют в идеальности битв и неумолимо рисуют всю их оборотную сторону, потому что видели ее собственными глазами и потрогали собственными руками. Изображение правды, и только одной неподкрашенной правды — самое высочайшее достоинство их обоих. Этим-то оба художника так и дороги каждому, кто способен что-нибудь понимать не по-казенному; но неизвестному писателю и горюшка до всего этого мало. Ему одно только казенное и нужно, одно оно ему только и понятно, и наверно он захлебывался бы от восхищения, если б, вместо чудной галереи Верещагина, ему расставили бы перед глазами все тысячи холстов, например, хоть бы из версальской галереи, с „ура“, барабанами и трубами, с размахнутыми руками и выпученными глазами, с вечною торжественною победой и вечными лакированными физиономиями, со всем тем, от чего тошнит всякую здоровую, еще необказененную натуру. Ну, да что делать, всякому свое!
Другой писатель „Нового времени“, В. П., такой же, должно быть, любитель картин на версальский манер, как его неизвестный товарищ. Какой курьезный господин! Ему непременно нужно, чтоб картины войны были полны лжи, припрятываний и подкрашиваний, и тогда только он будет доволен и счастлив. Он с каким-то медным лбом спрашивает: „Зачем обезображенного мяса в картинах так много?“ и никак, бедняга, не в состоянии отгадать простого ответа: оттого, что так много его в самом деле и было. Как это понять, о нет! Боже сохрани, ему надо в картине поменьше того, что есть, и побольше того, чего нет и не было; не то сейчас — „ложь, сатира, неправда, злостное подчеркиванье!“ Какое ему дело до того, что турки, в самом деле, варварски обезобразили и по-разбойничьи ограбили тела избитых русских под Телишем? Пусть это было, только не смей представлять этого: это неправда, этого не должен никто видеть, это надо спрятать и позабыть, только бы налицо были трубы и барабаны! И этакие-то господа смеют говорить за других, за целую массу русских смеют уверять: „Глубоко и сердечно обидится русское, простое мужицкое или солдатское сердце за правду этих картин“. Да подите вы, отстаньте с вашим „простым мужицким и солдатским сердцем“, держите его дома, для собственного употребления! Кому оно нужно, это ваше „простое русское сердце“, чудно премудрое и карикатурно обидчивое? Подите, побывайте только на выставке, послушайте, что там думают и говорят все тысячи настоящих, не газетно-фельетонных русских, и вы узнаете, обижаются ли и плачутся ли они на Верещагина, взыскивают ли с него за то, что он не дает своими картинами того пошлого „мира и спокойствия“, которого вам так бы хотелось.