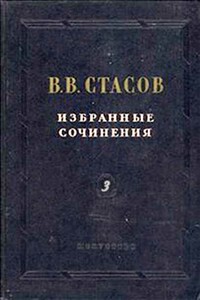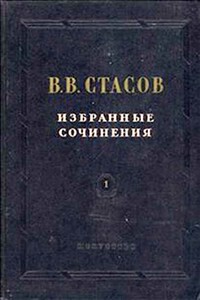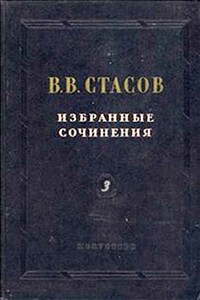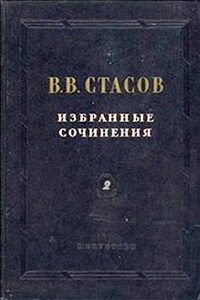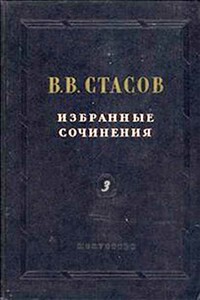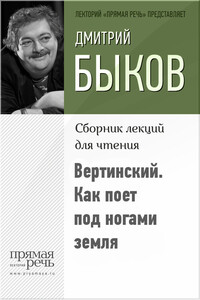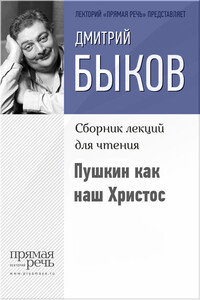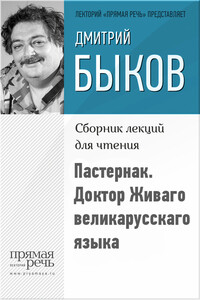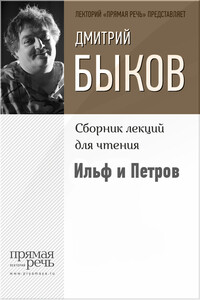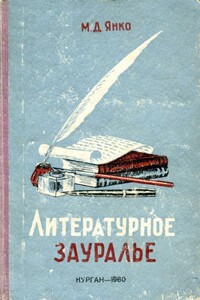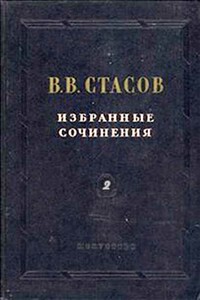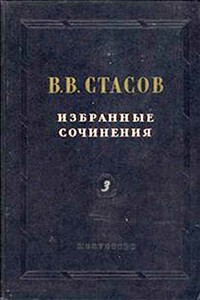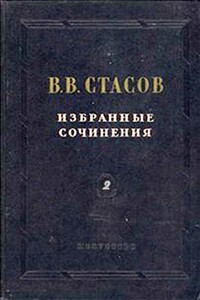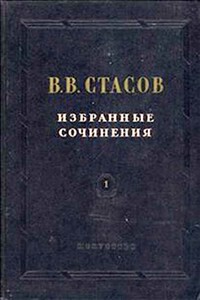Да, еще: непременно, чтоб тут были „молящиеся“, чтоб краски не были „слишком мрачны“ — ну, вот тогда и будет налицо настоящая история. Что за карикатура!
Но что всего смешнее и печальнее: оба писателя, и неизвестный, и известный, в превеликом неудовольствии на Верещагина, зачем он не написал таких-то и таких-то сцен из турецко-болгарской войны, зачем пропустил то, зачем не изобразил этого? Да кто вам сказал, великие ценители и судьи, что Верещагин закаялся больше писать картины из этой войны, и что до сих пор изобразил, на том только и остановится? Может быть, у него в голове еще сто картин, таких же великих созданий, как большинство нынешних. Или вы наверное знаете, что только в ваши премудрые головишки могло войти понятие о том, сколько великодушия, храбрости, неслыханных подвигов самоотвержения и величавой в своей простоте человечности проявили несметные тысячи русских, побывавших на войне, военных и статских, старых и молодых, мужчин и женщин, иногда даже полудетей? Неужели Верещагин, с широким сердцем и глубокою художественною натурою, меньше это понимал, он, все это видевший собственными глазами на поле битвы, сам под ядрами и гранатами, чем вы, комфортабельно гревшиеся у печки в Петербурге? Или же он провинился тем, что берет сюжеты для своих картин, один за другим, не в том порядке, как вы прикажете, а как диктует ему его собственное, объятое вдохновением чувство и воображение?
Но представим себе на одну секунду, что Верещагина больше нет на свете, он умер и не напишет больше ни одной картины из турецкой войны, кроме тех, что теперь у нас перед глазами. Что ж! Неужели и в самом деле картины его стали меньше оттого, что не все целиком сцены войны тут представлены? Странный народ! Вечное повторение той распреумной собаки, что разинула рот, чтоб схватить то, чего нет, и выронила то, что есть. Правда, красота, небывалый реализм, глубина поэзии, захватывающее чувство — все это по боку; ничего этого они не видят и не понимают, все это летит понапрасну мимо, только бы великий свой патриотизм показать, только бы свое глубокодумное понимание истории и искусства заявить. „Тебя без скуки слушать можно. А жаль, что незнаком ты с нашим петухом: еще б ты боле навострился, когда бы у него немного поучился“. Вот они что!
Но петухов теперь тут не один — целых два.
Не все картины у Верещагина равны — далеко нет. У него есть и посредственные, есть и слабые — и публика их очень хорошо различает, хотя, конечно, никогда не поставит в великий укор: где же видан художник, у которого в целом ряде произведений (да еще в такой громадной массе, как у Верещагина) все были, как на подбор, только алмазы да жемчужины наивысочайшего калибра? Это дело просто немыслимое. Но кто же у нас не чувствует всей великости верещагинской выставки, не имеющей себе ничего подобного (в том же роде) не только у нас, но и во всей Европе? Ведь лучшие современные живописцы войны, Невилли и Детайли, как ни высоко стали в сравнении со всеми своими предшественниками (Орасами Берне и всеми остальными без конца), но стоят еще далеко от нашего Верещагина по глубокости и смелости реализма. Что касается техники, то недаром лучшие английские и французские живописцы заговорили в один голос, увидев картины Верещагина, что у него должна учиться вся их школа. И немудрено: не только по технике, но и по выражению, по чувству, по мысли, Верещагин никогда еще так высоко не поднимался, как теперь, в своих картинах из турецкой войны. Не понимает этого только тот, кто лишен всякого художественного чувства и смысла.
Да, скажите, кто у нас не был потрясен и тронут до самых корней души этими чудными представлениями самой великой из наших войн, у кого не захватывало дух перед этими изумительными сценами. подобных которым не видывало еще европейское искусство? Кто не думал про себя сто раз: вот картины, которые должны были бы стать народным достоянием, которые должны были бы быть куплены все разом, целиком, и занять первое место в русском народном музее, вместо всевозможных чужестранных мадонн и Агамемнонов; вот картины, которыми наше отечество имело бы право гордиться перед целым светом, как оригинальнейшим созданием своеобразного русского таланта и ума; вот картины, на покупку которых должна бы сложиться вся Россия, если уж никто в отдельности не сыщется, кто бы их купил. И, однакож, не все так думают. Нашлись тоже и оплеватели, которым одно только нужно: доказать дрянность, тупость и глупость Верещагина, злобу его на Россию и искажение им всего самого лучшего и высокого в русском народе, и, наконец, намекнуть на то, что, мол, и писать-то красками Верещагин стал гораздо хуже прежнего. О, невежды! Точно будто они понимают в этом что-нибудь выше своих копыт!
По счастью, и чтоб меньше было нам стыдно, таких доблестных мужей оказалось у нас всего два.
Чудеса, право, откуда редакция „Нового времени“ таких выкапывает? Или она, действительно, стала нынче верным приютом для всего, что только есть самого гнилого на свете?
1880 г.