Охота на сурков - [242]
— Gloria[428]…
Моцарта противопоставили Баху. Патриотически лобовая атака. Разве это не смешно? И разве Шикльгрубер, которому, так сказать, хотели дать отпор этим жестом, не был позднейшим соотечественником Моцарта? (Трудно представить себе, что одна и та же земля породила того и того.) И еще: не разумней ли было Моцарту принять предложение прусского короля, который хотел сделать его придворным капельмейстером с хорошим жалованьем, а не пребывать по-прежнему на службе у императора и получать нищенское жалованье чтобы однажды в декабре — с тех пор прошло уже сто пятьдесят лет — умереть еще совсем молодым и быть брошенным под вой метели в «общую могилу», в могилу для бедняков, которую так никогда и не удалось разыскать?
— Gloria…
О боги! Нет, о бог! Какая сердечная, простая, почти наивная праздничность живет в этом гимне Славе с его протяжными, замирающими вдали аминь… аминь… аминь…
Что касается меня, то, продолжая бороться с легкими приступами тошноты, я думал о том, что испытываю самую глубокую и самую высокую любовь к человеку, чей труп был зарыт в декабре в могиле для бедняков; многоголосая месса Моцарта тронула меня сильнее, нежели холодная универсальность Баха, нежели его недуалистическая, темперированная, поднятая над людскими страданиями — «математическая» музыка. А когда зазвучало «Credo» с его срединной частью, в которой пение скромного хора причудливо-прелестно, нежно и тревожно вплетается в фигурацию струнных инструментов, так что порою кажется, будто музыка и впрямь льется с небес, я, экс-христианин, почувствовал, что меня захватила месса и что дурной запах перестал тревожить мое обоняние. Я вырос католиком и сейчас, спустя долгое время, в последний раз ощутил себя дома в этом храме.
— Et incarnatus est…
Во мне проснулась необъяснимая надежда и словно бы свела на нет мой эмпирический, хорошо обоснованный, глубоко продуманный пессимизм, прекрасная, но бессмысленная надежда. Она не оставляла меня ни во время величественного «Sanctus», ни во время изящного «Benedictus», ни во время ликующей «Osanna». Только потом она внезапно исчезла.
Инницер Теодор, отвернувшись от толпы, стоял в отдалении перед главным алтарем; казалось, до него много километров; он стоял в парадном облачении, в остроконечной митре, и, глядя на него из обманчивой дали, я вдруг подумал, что он похож на вставшую на задние лапы гигантскую черепаху, которая высунула из-под панциря свою остроконечную головку. Нет, его высокопреосвященство, кардинал Инницер, венский архиепископ, не станет сопротивляться, не помешает петь осанну Шикльгруберу, кричать «зиг хайль!» Конечно, он не был неистовым приверженцем Шикльгрубера, как викарный епископ Худал, пребывавший в ту пору в Судетах. Не исключено, впрочем, что н Худал, если бы он родился в другой части Дунайской монархии, а не в пограничной области, где говорили только по-немецки, занял бы более достойную позицию. Судетские немцы вплоть до наших друзей, находившихся в рядах родственной нам чехословацкой партии, были буквально заворожены навязчивой идеей «богемского ефрейтора» о «великом рейхе».
— Оsannа!..
Кто из той массы людей, стиснувших меня, кто из тех тысяч верующих, поклоняющихся кресту, окажет сопротивление ордам Шикльгрубера, которые ворвутся сюда, сметя границы? Кто? Разве половина, да что там половина, разве куда большая часть этой толпы не переметнется в одно мгновение, не прилепит рядом с крестом распятого четырежды изломанный антикрест и не возопит тысячей глоток осанну фюреру?
— Osannа!..
Толпа людей в намокших пальто снова начала терзать мое обоняние, по мне снова помог мой бессмертный далекий друг Вольфганг Амадей — он один мог парализовать действие ядовитых испарений. Сейчас стоило вспомнить о том, как еще девятилетним мальчишкой я привел в ярость оломоуцкого священника, преподававшего нам катехизис, вопросом: «Почему бог не избрал вместо агнца льва?» (Преподаватель катехизиса: «Да потому, что слово пророка должно было сбыться, дурень!») Ну а теперь, слушая Agnus Dei[429], исполняемую одиноким, ласкающим слух сопрано — я даже с ходу немножко влюбился в него, — я пришел в приятное и очень земное состояние печали. Неужели это церковная музыка? По-моему, это поет графиня из оперы-буфф «Le nozze di Figaro»[430]. Поет о своем сладостном отречении. «Dove sono i bei inomen ti»[431]. Слишком быстро ты исчез. (Да, это можно сказать.) Разлука, разлука…
— Dona nobis pacem!..[432]
Они всегда выпрашивают мир. И сами подрывают его, шизофреники-попрошайки, ведь и телом и душой они за войну; они молят — ниспошли нам войну!
Не надо об этом думать, только не сейчас. Экс-христианин, побудь еще хоть немного «в плену» у музыки. Слишком быстро все это исчезнет.
— Dona nobis pacem. — Гигантский орган звучал крещендо.
В его блестящих, гладких, воистину гладко скользящих звуках мне почудился вопрос: мир? А разве мы НЕ ПОСЛЕДНИЕ? И не только Джакса (и Джакса VII), по и все мы здесь, в этом полуночном соборе, а также и все прочие за его стенами, все жители «христианского абендланда», все, кто встречает нынешнюю рождественскую, пропащую ночь, пропащую, ибо она превратилась в ложь во спасение… да, все мы без всякого различия — большие и маленькие, фашисты и антифашисты? Не станем ли мы, если только нам удастся спасти свою шкуру, последними представителями пашей эпохи, относительно долгой, охватывающей добрых три столетия, эпохи, которая началась словами Галилео Галилея: «А ВСЕ-ТАКИ она вертится!..» и которая теперь, через несколько лет или десятилетий, придет к концу? А может, людям моего поколения выпала честь открыть новые пути для ЗАЧИНАТЕЛЕЙ новой эпохи? В этом наша надежда в пучине безнадежности!
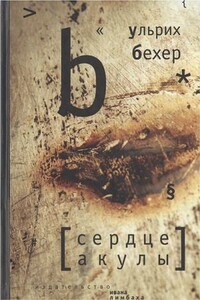
Написанная в изящной повествовательной манере, простая, на первый взгляд, история любви - скорее, роман-катастрофа. Жена, муж, загадочный незнакомец... Банальный сюжет превращается в своего рода "бермудский треугольник", в котором гибнут многие привычные для современного читателя идеалы.Книга выходит в рамках проекта ШАГИ/SCHRITTE, представляющего современную литературу Швейцарии, Австрии, Германии. Проект разработан по инициативе Фонда С. Фишера и при поддержке Уполномоченного Федеративного правительства по делам культуры и средств массовой информации Государственного министра Федеративной Республики Германия.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта история произошла в реальности. Её персонажи: пират-гуманист, фашист-пацифист, пылесосный император, консультант по чёрной магии, социологи-террористы, прокуроры-революционеры, нью-йоркские гангстеры, советские партизаны, сицилийские мафиози, американские шпионы, швейцарские банкиры, ватиканские кардиналы, тысяча живых масонов, два мёртвых комиссара Каттани, один настоящий дон Корлеоне и все-все-все остальные — не являются плодом авторского вымысла. Это — история Италии.

В книгу вошли два романа ленинградского прозаика В. Бакинского. «История четырех братьев» охватывает пятилетие с 1916 по 1921 год. Главная тема — становление личности четырех мальчиков из бедной пролетарской семьи в период революции и гражданской войны в Поволжье. Важный мотив этого произведения — история любви Ильи Гуляева и Верочки, дочери учителя. Роман «Годы сомнений и страстей» посвящен кавказскому периоду жизни Л. Н. Толстого (1851—1853 гг.). На Кавказе Толстой добивается зачисления на военную службу, принимает участие в зимних походах русской армии.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.
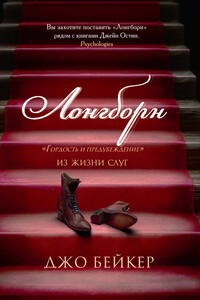
Герои этой книги живут в одном доме с героями «Гордости и предубеждения». Но не на верхних, а на нижнем этаже – «под лестницей», как говорили в старой доброй Англии. Это те, кто упоминается у Джейн Остин лишь мельком, в основном оставаясь «за кулисами». Те, кто готовит, стирает, убирает – прислуживает семейству Беннетов и работает в поместье Лонгборн.Жизнь прислуги подчинена строгому распорядку – поместье большое, дел всегда невпроворот, к вечеру все валятся с ног от усталости. Но молодость есть молодость.