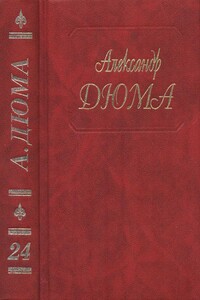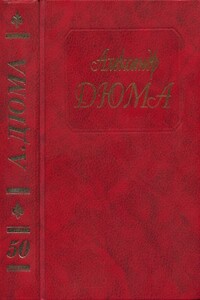Поезд миновал нас, остановился, кондуктор по ту сторону вагонов закричал:
— Гаршфальва, эд перц!
Жених Нинки завыл, как волк: «Бассама!» [1] и побежал к вагонам; старший сын за ним. Но как только они добежали, поезд тронулся: одна минута прошла.
С того дня моя Нинка слепа на оба глаза, и жених навсегда уехал в Семиградию.
* * *
Я хотел сказать этому мадьяру:
— Если бы вы знали те муки, смесь невыносимых угрызений и подлого давящего страха, которые перенес тот неизвестный пассажир за ту минуту, когда в его жилах остановилась кровь, и он помнил только два крика — вопль невидимой женщины за окном и возглас кондуктора «эд перц», — вы бы, может быть, простили его.
Но я ничего не сказал. И утром, в Анконе, после таможни я ушел, не попрощавшись с ним.
Зачем мне глядеть ему в глаза, зачем мне говорить с ним? Разве я могу утешить его… разве я могу заплатить ему за погубленные черные глаза его дочери Нинки, которая так страшно, так безумно и отчаянно закричала тогда, три года назад, на минутной станции, так страшно, что ее вопль до сих пор звенит у меня в ушах?
1900