Одиссея последнего романтика - [113]
И вот еще что. Повторяю прежнюю мою просьбу. Узнай при свидании с Шестаковым об оренбургских делах. Чувствую, что этим опять должно кончиться. Всякие нерешительные отношения мне глубоко надоели.
Во всяком случае — мне нужно просмотреть корректуры.
1864 г. Июля 26. Твой An. Григорьев
Воскресенье вечером.
Дача Тарасовка.
Петербург 1864 года. Сент<ября> 3
Добрый друг!
В последний раз обращаюсь посредством тебя с просьбою — затем окончательно замолкаю и отдаюсь своей участи.
Дело в том, что если уже нельзя мне освободиться, — то так и быть. По крайней мере — мне нужны обещанные сто рублей, если уж не совсем я стал не нужен редакции. Да совсем-то все-таки не могу я сделаться ненужным. «Записки» мои считал все-таки достаточно интересными покойник — ну я их и буду писать…
Неужели же, друзья мои, — так трудно понять, что не получавши аккуратно даже по пяти обещанных рублей в неделю — и что просивши эти несчастные сто рублей еще до задержания в долговом отделении и, конечно, не получившему <так!> их— человеку вообще беспорядочному, как я, — легко было привести себя уже в безвыходно-гнусное положение…
А с другой стороны, что (не говорю уж о непереносной пище и недостатках в табаке и чае) — задолжавши кругом тут же людям, беспрестанно вертящимся на глазах, — протухши от пота, — ибо белье не отдает прачка, — не имея какого-либо костюма, можно что-либо думать?
Положим, — что у вас есть теперь критик, который вас не окомпрометирует крайностями, которому я сам охотно, любя его всей душой, сдаю все свои обязанности, — но хоть за прежние-то заслуги и за «Записки» — не третируйте меня хуже щенка, покидаемого на навозе.
Повторяю — все это говорится в последний раз.
Твой и ваш всегда Григорьев,
Сегодня буду сновать из угла в угол по приемной в ожидании.
Воспоминания об Аполлоне Григорьеве>{385}
К. Н. Леонтьев
Несколько воспоминаний и мыслей о покойном А.П. Григорьеве
Незадолго до кончины Ап. Григорьева я познакомился с ним. Имя его я знавал и прежде — в первой моей молодости я читал его статьи в «Московитянине» и сам тогда не знал, верить ли ему или нет. Слог его я находил смутным и странным; требования его казались мне слишком велики. По критической незрелости моей я тогда был поклонником «Записок охотника», и мне казалась возмутительной строгость, с которой Григорьев относился к первым произведениям Тургенева. (Григорьев отнесся иначе к более зрелым произведениям этого писателя и доказал этим свой критический такт.) Однако многое и из тогдашних его статей осталось у меня в памяти, и суждения не только о наших, но об А. де Мюссе и др. иностранных писателях, я и тогда это чувствовал, были исполнены глубины, изящества. Я чувствовал это и тогда, но отчасти благодаря моей собственной незрелости, отчасти благодаря ширине духа самого Аполлона Григорьева, с трудом вмещавшегося в слово, я все-таки повторял: «Непонятно, чего хочет этот человек!»
Я не понимал, например, тогда ясно — почему Григорьев, отдавая справедливость дарованию Писемского, столь сильно предпочитает ему Островского. И в том, и в другом я видел лишь комизм. Я не умел тогда понять, что Островский более положительный писатель, чем Писемский, что положительность его особенно дорога своим реализмом, ибо положительность его изображений была не в идеале, а в теплом отношении к русской действительности, в любви поэта, с которой относился к нашему полумужицкому купеческому быту, несмотря на его суровые стороны и не скрывая их…
Аполлон Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале; его идеал был — богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности. Так я понимаю его теперь; быть может, я и ошибаюсь, — вам, как ближайшему его другу, предстоит исправить мои ошибки.
А. Григор<ьев> стоял особняком. Оба московские кружки западников и славянофилов одинаково отталкивали его.
Разгульная ли жизнь Григорьева, чувственность ли, дышавшая в статьях его, не нравились строгим славянофилам, известным чистотою своей семейной и личной жизни, но Григорьев близок с ними не был.
Между Аксаковым и Григорьевым была та же разница, какая есть между теми вполне русскими стихами Кольцова, где дышат нравственность и чистая вера, и теми тоже вполне русскими стихами Кольцова, где дышат разгул, тоска по разгулу и чувственность.
С славянофилами я лично не был знаком, зато изустные отзывы передовых людей другого рода о Григорьеве были мне хоть урывками, но хорошо известны. Я бывал тогда нередко в одном доме, где встречал Кудрявцева, Грановского, Боткина, Тургенева и др.
Тургенев был всегда блестящим светским человеком, капризно-остроумным в обществе, вроде так хорошо изображенного им Горского («Где тонко, там и рвется»).
Он любил небрежно и даже презрительно отзываться о своей собственной литературной деятельности; ценил высоко только Пушкина и Гоголя, а из современных ему авторов отдавал справедливость всем, не восхищаясь ни одним. Строгость его к другим выкупалась, как я сказал, строгостью его отзывов и о собственных произведениях (тогда еще не были им написаны ни «Рудин», ни «Дворянское гнездо»).
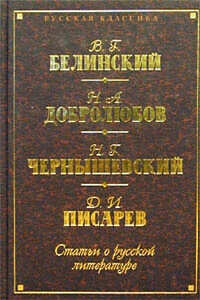
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опера Дж. Мейербера «Роберт-дьявол» имела большой успех у русских романтиков: ей увлекались молодые В.П.Боткин и В.Г.Белинский, неоднократно упоминал о ней в своих статьях и А.Григорьев. Данная статья – рецензия на спектакль приехавшей в Москву петербургской немецкой оперной труппы.
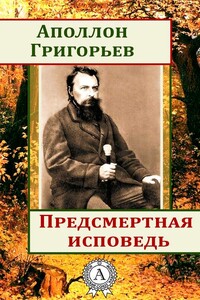
«Предсмертная исповедь» − поэма талантливого русского поэта, переводчика и литературного критика Аполлона Александровича Григорьева (1822 − 1864).*** В этом произведении описаны последние часы жизни одинокого и гордого человека. Рядом с ним находится его единственный друг, с которым он перед смертью делится своими переживаниями и воспоминаниями. Другими известными произведениями Аполлона Григорьева являются «Вверх по Волге», «Роберт-дьявол», «"Гамлет" на одном провинциальном театре», «Другой из многих», «Великий трагик», «Листки из рукописи скитающегося софиста», «Стихотворения», «Поэмы», «Проза».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
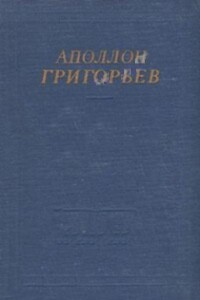
В сборник включены лучшие лирические произведения А.Григорьева (среди них такие перлы русской поэзии, как «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная» и «Цыганская венгерка») и его поэмы. В книгу также вошли переводы из Гейне, Байрона, Гете, Шиллера, Беранже.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.