Очерки, рассказы, статьи, дневники, письма - [6]
— Вот спасибочко, надоумила! На первой же привяжу к плице.
Скоро «Жорес» опять подходит к берегу. Стоит недолго.
Вечереет. Речная мягкая тишина, простор, праздность располагают к мечтам.
— Уток тут, видать, будет здорово, — говорит Валентин. — Высадимся — пощёлкаем. Нашим ленинградским за всю жизнь столько не набить.
— Ещё бы, — соглашаюсь я. — И потом что-нибудь мне непременно попадётся очень интересное. Может быть, какой-нибудь совсем новый вид птиц.
— Для пользы науки, — бормочет Валентин.
Речная мягкая тишина, простор располагают к музыке.
На юте бренчат гусли. Седые бородачи уставились тяжёлыми глазами в воду, глядят, как убегает из-под кормы пена — назад, в прошлое. Тянут вполголоса:
Запевают в салоне первого класса.
Запевают на баке.
— «О баядера, я пленен красотой!» — поют в салоне. На юте тянет бородатый хор:
— «Эх, эх, да герой!» — кроют с бака молодые голоса. На юте дотягивают:
А уж на баке новую грянули под гармошку:
И только в салоне под аккомпанемент вконец раздрызганного пианино все тот же сладенький стон о красоте танцовщицы-баядерки.
Громкий рёв «Жореса» прерывает музыкальные упражнения пассажиров.
После остановки у высокого грузчика с молодайкой происходит короткий разговор:
— Ладно выстирало?
— Тьфу! На вот, получай в подарок.
И он швыряет на палубу два жалких лоскутка дикого цвета.
— Говорила тебе: стирать не придётся…
Проснулись на следующее утро, — «Жорес» топает по Тоболу. Те же берега, но река пошире. На остановках пароход заворачивает уже носом к течению.
Луга по берегам. На высоких куполах стогов сидят орлы. Надменно поглядывают по сторонам.
У нашего окна — кучка оживлённых парней в пиджаках. Быстрый, непонятный мне татарский разговор. Но выхлёстывают из него знакомые слова:
— … развитие политическое йок…
— … заём индустриализации бар…
— … партейная ячейка бар…
В половине второго вдали показался высокий берег, белый кремль на нём, белая высокая колокольня.
В два подошли к Тобольску.
В «Настольной и дорожной книге» сказано:
«Тобольск расположен на двух террасах правого, нагорного берега р. Иртыша, близ впадения в него р. Тобола.
…Вблизи город не представляет ничего привлекательного, особенно в своей подгорной части: здесь сосредоточивается беднейшая часть населения… Все губернские учреждения находятся на горе, куда ведут два подъёма: один — для экипажей, другой — для пешеходов, с лестницей до 906 ступеней.
…В 1708 году Тобольск назначен был губернским городом Сибирской губернии, в которую входила вся Сибирь… С перенесением управления Западной Сибири в Омск было изменено направление главного почтового Сибирского тракта, от которого Тобольск остался в стороне. Это весьма чувствительно отразилось на экономическом состоянии города».
Но давно заглохший было захолустный город встретил нас необычайным оживлением.
Толпа на пристани — ошеломляющая смесь всех времён, племён и профессий. В костюме с иголочки джентльменистые моряки Карской экспедиции и рядом — в долгополом кафтане — татарский мулла. Густобородый казак, потомок Ермака, и москвич в черепаховых очках. Самоед в малице и кооператор-еврей в пиджаке. Горячеглазый монгол и чудь белоглазая.
Тобольск — центр округа Уральской области. Центр округа, богатого лесом, пушниной, дичью, рыбой. Центр края, в глухих углах которого туземцы ещё только начинают просыпаться от тысячелетнего сна, ещё приносят жертвы деревянным идолам, мажут им губы кровью растерзанных в их честь животных. Центр заново после революции открытой страны.
И летом по рекам, снизу и сверху, на великолепных американских пароходах, зимой на санях по терпкому снегу, из глубины дикой земли Югорской и из Свердловска, из Москвы и с полуночного Конца Земли съезжаются сюда люди всевозможных племён, обычаев и специальностей — исследовать, докладывать, налаживать, просить помощи.
Движение, шум, разговор на всех языках.
По вечерам в городском саду верещит кинематограф, и шумно радуются жизни бритые парни в кепках. А под горой сидят на лавочках у ворот седенькие потомки Ермака и потомки Кучума. И тихо тут, как в музее.
Впрочем, в музее здешнем бывает тихо только по ночам. Богатейший краевой музей без отдыха принимает посетителей.
Я увлёкся разглядыванием интереснейших коллекций птичьих шкурок, доступных обозрению и понятных только специалистам.
От выставочной части, которую осмотрел я наспех, у меня осталось странное впечатление, наверно, перевитое прежними впечатлениями от ленинградских и свердловского музеев.
За стёклами витрин в шалаше, вокруг красной грудки из материи сделанных углей, сидят неподвижные, неживые люди в шкурах.
Они точно выхвачены из тьмы времён, из времён человеческой предыстории, и застыли, как мумии. Нелепая мысль приходит в голову: если убрать, потушить эти матерчатые уголья, невсамделишный этот огонь, — исчезнут и люди, вызванные из небытия. И конечно, сейчас же спохватываешься: группа-то ведь эта не археологическая, а краеведческая, здесь куклами представлены одновременно с нами живущие люди. Надпись на витрине подтверждает: «Самоедский чум».

В книгу замечательного писателя-натуралиста Виталия Валентиновича Бианки вошли: «Лесная газета» (в сокращении), сказки и рассказы.

В сборник произведений детского писателя-натуралиста В. В. Бианки вошли лучшие его сказки о животных: «Приключения Муравьишки», «Сова», «Хвосты», «Лис и Мышонок». Автор, прекрасный знаток природы, приподнимает завесу тайны над жизнью обитателей леса. Иллюстрации И. Цыганкова.Для дошкольного возраста. Для подготовительной группы детского сада.В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

«Сидит Старик, чай пьёт. Не пустой пьёт – молоком белит. Летит мимо Сова.– Здоро́во, – говорит, – друг!..».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу Виталия Валентиновича Бианки вошли лучшие его произведения о природе. Писатель был её прекрасным знатоком. За годы своей литературной работы он написал более трёхсот сказок, рассказов, повестей, посвящённых природе. Много писал В. В. Бианки о лесе и его обитателях. Больше всего он любил рассказывать о тех животных и растениях, которых каждый может встретить в лесах и полях родной среднерусской полосы. Он учит читателя наблюдать, сравнивать, думать, быть исследователем, беречь природу. Книга издаётся к 125-летию со дня рождения В.

Единственное условие, с которым Южаночка сможет быть рядом с обожающим ее дедом — это поступить в институт в Петербурге.Живая, избалованная Ина, дитя природы, с трудом привыкает к казенному и четко регламентированному быту…
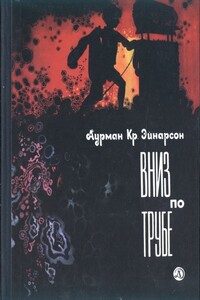
Повесть посвящена событиям в Исландии, которые в свое время приковывали к себе внимание всего мира, — это извержение вулкана и рождение острова Сюртсэй в 1963 году. Страницы книги проникнуты любовью к детям, к простым исландцам-труженикам, к их стойкости и трудолюбию.
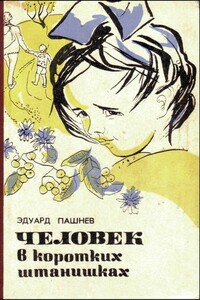
«… – А теперь, – Реактивный посерьезнел, и улыбчивые складки вокруг его брезгливого рта приобрели вдруг совсем другой смысл. Они стали жестокими. – А теперь покажи-ка ему, что мы делаем с теми мальчиками, не достигшими паспортного возраста, которые пробуют дурачить Реактивного и его закадычного друга Жору.С потолка на длинном проводе свешивалась над столом засиженная мухами лампочка. Монах поймал ее, вытер рукавом и вдруг сунул в широко перекошенный рот. Раздался треск лопнувшего стекла. Мелкие осколки с тонким звоном посыпались на пол.
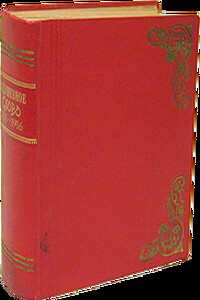
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга посвящена школьной экспедиции на Новую Землю в 1942 году, где ребята, чтобы помочь голодающему населению Архангельска собирали яйца на птичьих базарах, заготовляли тушки кайры — полярной промысловой птицы. Во второй повести читатели снова встретятся с главным героем «Робинзонов студеного острова».

