Очерки по социологии культуры - [52]
Как отмечают исследователи, роль премий в организации российского литературного и читательского сообщества была традиционно слаба — эту задачу решали скорее журналы[71]. В современной ситуации важно и интересно то, что описанный в предыдущих статьях крах российских журналов (и периодики в целом) как руководителей общественного мнения в сфере литературы отнюдь не привел к росту влияния премий[72]. Сейчас эта роль регулятора литературного поведения, связи писательского «вызова» и читательского «отклика» вакантна. В какой-то степени с помощью рекламы и других подобных рыночных средств ее пытается выполнять книжная торговля. Однако бедность нынешнего российского социума (бедность не одними лишь деньгами, но и самостоятельными персональными авторитетами, влиятельными группами, их воздействием на более широкие слои, устойчивыми, регулярными коммуникациями между ними), отсутствие налаженной и эффективной системы распространения книг по стране — иными словами, бедность не только и не столько ресурсная, сколько структурная, институциональная, со своей стороны, блокирует и трансформирует действие чисто коммерческих механизмов.
2006
О технике упрощенчества. И его цене
Говоря о цензуре, я имею сейчас в виду централизованную практику контроля — отбора, запрета, разрешения — лишь в одной области, которую просто лучше знаю. Речь — о писаных и неписаных нормах распространения научных идей и художественных образцов. Верней, об ограничениях доступа публики к этим образцам и идеям со стороны государства, во имя государственных интересов и его же — государства — средствами[73]. (Впрочем, как станет ясно позднее, разговор не только о распространении и доступности этих образцов и идей для читателей, зрителей, слушателей, но и о самом их создании авторами: цензурные барьеры — не вне нас, они — в нас самих, они — это мы сами, какими себя сделали и приняли[74].) Ни бдение над непогрешимостью священной особы венценосца, ни охрана ключевых секретов военной стратегии, равно как закулисные тайны дипломатии и заботы духовной цензуры, меня здесь интересовать не будут. Этим сразу обрисовываются две общественные инстанции, публичные роли, два типа социальных групп со своими ресурсами, авторитетом, функцией, которые в данном случае, по поводу и на материале научных идей и художественных образцов, взаимодействуют. С одной стороны, интеллектуальная элита, берущаяся производить новые модели опыта, мысли, чувства, понимания, выражения. С другой — облеченные государственной властью блюстители порядка, они же распределители оценок сделанному, а далее — распорядители вознаграждений и санкций за заслуги и нарушения.
Дело первых — а интеллектуалы как самостоятельный и влиятельный общественный слой сложились в Европе эпохи Просвещения и вслед за нею — создавать и выносить на обсуждение прежде не существовавшие или недовоплощенные точки зрения в любой культурно значимой сфере и по любому культурно значимому предмету. Иначе говоря, их забота — выражать, уточнять, заострять, додумывать позиции все новых и новых групп общества, как нынешних, реальных, включая дефицитные и дискриминированные, так и перспективных, завтрашних, «воображаемых», а тем самым приумножать его, общества, многообразие, равно как наращивать сложность, гибкость, плюрализм, даже известный полиглотизм культуры. Культуры, которая, замечу, нисколько не теряет при этом (трудами, кстати сказать, той же группы интеллектуалов) своей определенности, осмысленности и связности. Среди прочего, в расчете на всю эту интеллектуальную деятельность и в ходе ее развития в Европе складывается, в терминологии Юргена Хабермаса, пространство «общественности», публичная сфера[75].
Задача вторых (а цензура как общесоциальный институт оформляется на Западе вместе со становлением политических идеологий и посттрадиционных «идеологических государств», они ведь тоже намерены просвещать и воспитывать![76]) — не только ограничить набор подобных, для новой и новейшей истории постоянных, попыток интеллектуалов увидеть небывалое и стремлений по-другому посмотреть на уже известное. Может быть, еще важнее для контролирующих групп другое. Их цель — поставить пределы самому желанию общественной и смысловой альтернативы, а то и вовсе устранить мысль о каких бы то ни было иных возможностях, подавить либо скомпрометировать даже мотивацию к такого рода деятельности — познанию, художественному творчеству, реформаторской социальной практике. Отсюда вывод: цензурируют, строго говоря, не книги и не фильмы, не натюрморты и не сонаты. Даже не генетику с кибернетикой.
Во-первых, настойчиво суживается, обрубается, уродуется репертуар тех представлений об обществе, которые силами интеллектуалов этому обществу — через те же самые сонаты и натюрморты, фильмы и книги, генетические аналогии и кибернетические метафоры, сам пафос познания — предъявлены и в которых оно себя узнает (или не узнает), понимает (либо не понимает), оценивает (со знаком плюс или со знаком минус). Здесь я бы говорил о

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

Сборник «Религиозные практики в современной России» включает в себя работы российских и французских религиоведов, антропологов, социологов и этнографов, посвященные различным формам повседневного поведения жителей современной России в связи с их религиозными верованиями и религиозным самосознанием. Авторов статей, рассматривающих быт различных религиозных общин и функционирование различных религиозных культов, объединяет внимание не к декларативной, а к практической стороне религии, которое позволяет им нарисовать реальную картину религиозной жизни постсоветской России.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.
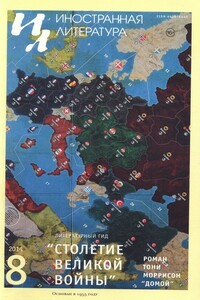
Подборка стихов английских, итальянских, немецких, венгерских, польских поэтов, посвященная Первой мировой войне.

Смысловой центр книги известного социолога культуры Бориса Дубина – идея классики, роль ее в становлении литературы как одного из важных институтов современного общества. Рассматриваются как механизмы поддержания авторитета классики в литературоведении, критике, обучении, книгоиздании, присуждении премий и др., так и борьба с ней, в том числе через выдвижение авангарда и формирование массовой словесности. Вошедшие в книгу статьи показывают трансформации идеи классики в прошлом и в наши дни, обсуждают подходы к их профессиональному анализу методами социологии культуры.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Владимир Сорокин — один из самых ярких представителей русского постмодернизма, тексты которого часто вызывают бурную читательскую и критическую реакцию из-за обилия обеденной лексики, сцен секса и насилия. В своей монографии немецкий русист Дирк Уффельманн впервые анализирует все основные произведения Владимира Сорокина — от «Очереди» и «Романа» до «Метели» и «Теллурии». Автор показывает, как, черпая сюжеты из русской классики XIX века и соцреализма, обращаясь к популярной культуре и националистической риторике, Сорокин остается верен установке на расщепление чужих дискурсов.

Виктор Гюго — имя одновременно знакомое и незнакомое для русского читателя. Автор бестселлеров, известных во всём мире, по которым ставятся популярные мюзиклы и снимаются кинофильмы, и стихов, которые знают только во Франции. Классик мировой литературы, один из самых ярких деятелей XIX столетия, Гюго прожил долгую жизнь, насыщенную невероятными превращениями. Из любимца королевского двора он становился политическим преступником и изгнанником. Из завзятого парижанина — жителем маленького островка. Его биография сама по себе — сюжет для увлекательного романа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новую книгу волгоградского литератора вошли заметки о членах местного Союза писателей и повесть «Детский портрет на фоне счастливых и грустных времён», в которой рассказывается о том, как литература формирует чувственный мир ребенка. Книга адресована широкому кругу читателей.

«Те, кто читают мой журнал давно, знают, что первые два года я уделяла очень пристальное внимание графоманам — молодёжи, игравшей на сетевых литературных конкурсах и пытавшейся «выбиться в писатели». Многие спрашивали меня, а на что я, собственно, рассчитывала, когда пыталась наладить с ними отношения: вроде бы дилетанты не самого высокого уровня развития, а порой и профаны, плохо владеющие русским языком, не отличающие метафору от склонения, а падеж от эпиграммы. Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой.

Расшифровка радиопрограмм известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона (род. 1972), в которых он увлекательно рассуждает об «Илиаде» и «Одиссее», предлагая освежить в памяти школьную программу или же заново взглянуть на произведения древнегреческого мыслителя. «Вспомните то время, когда мы вынуждены были читать эти скучнейшие эпосы. Мы были школьниками – Гомер был в программе. Мы хотели играть на улице. Мы ужасно скучали и смотрели через окно на небо, в котором божественная колесница так ни разу и не показалась.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.