Очерки модального синтаксиса - [4]
Я – это изначальный центр любого высказывания, его основа даже тогда, когда Я открыто не выражено. Далеко не случайно то, что лингвистика не знает ни одного языка, в котором отсутствовали бы личные местоимения. Даже в самом безличностном высказывании так или иначе присутствует говорящий. И именно его присутствие превращает языковую единицу в речевую. Коротко можно сказать: речь начинается там, где есть говорящий. Средство же обнаружения говорящего – субъективно-модальное значение.
Язык располагает многообразными средствами выражения СМ. «Русская грамматика» относит к ним интонационные конструкции, грамматические, лексические средства, определенным образом взаимодействующие с интонацией и словорасположением, частицы, вводные слова и группы слов, междометия[13].
Как видим, средства выражения СМ даются списком, совокупно. Между тем они представляют собой систему, центр которой – не называемое обычно как субъективно-модальное средство местоимение Я. В языке (вне контекста) оно действительно не имеет субъективно-модального значения, но в высказывании, в тексте (речи) становится средоточием субъективной модальности. Если все остальные средства (вводные единицы и др.) выражают присутствие говорящего косвенно, то местоимение я называет говорящего прямо и непосредственно.
Все остальные средства СМ служат выявлению я в речи, связаны с ним, подчинены ему. Так, вводные слова, словосочетания, предложения обладают субъективно-модальным значением потому, что выражают отношение говорящего (я) к содержанию высказывания. Междометия, например, это непосредственная реакция говорящего и т.д. Таким образом, я – это средоточие, центр поля СМ. И появление я в высказывании (тексте) знаменует собой высшую степень СМ. Например:
Стояла звонкая тишина, лес нахмурился, посуровел. Я шел по тропинке, вглядываясь в темную чащу.
Появление я в последнем предложении резко меняет модальный план изложения: объективированное описание сменяется субъективированным. И предшествующие появлению якартины-фразы воспринимаются уже с точки зрения говорящего, я.
Переходя из языка в речь, я из нейтрального обозначения говорящего становится знаком присутствия говорящего в тексте и в зависимости от контекста, стиля, жанра вносит в речь разнообразные значения субъективной модальности. В тексте происходит усложнение структуры я. Оно не просто переходит из языка в речь, но модифицируется, усложняется. И главное заключается в том, что я говорящего, переходя в речь, может совпадать, а может и не совпадать с производителем речи (подробнее см. ниже).
Таким образом, местоимение я проявляет свои субъективно-модальные свойства только в высказывании, в тексте. Другие средства обнаруживают СМ как в языке, так и в речи. Иначе говоря, в речи они используются как готовые субъективно-модальные средства.
Каков же механизм действия СМ при переходе от языка к речи? Каков источник субъективно-модального значения в высказывании, речи?
Главное средство, образующее, конституирующее СМ[14], – категория производителя речи. И это естественно, без него речь невозможна. Однако отношение «производитель речи – речь» довольно сложно. Производитель речи многообразно и далеко не всегда прямо и непосредственно проявляет себя в речи. Промежуточным звеном между речью и ее производителем выступает субъект речи.
Я пишу.
Ты пишешь.
Он пишет.
Во всех трех предложениях производитель речи может быть один и тот же. Но в первом случае производитель речи и субъект совпадают. Производитель речи говорит о себе (это его собственная речь). Между речью и ее производителем нет никаких зазоров. Во втором предложении субъектом речи выступает тот, кого говорящий (производитель речи) называет ты. Производитель несколько отстраняется от собственной речи (появляется некоторый зазор). Производитель речи и ее субъект не совпадают. Однако связь между ними очень тесна: я и ты взаимно координированы. Ты подразумевает я. Наибольшая отстраненность производителя речи от ее субъекта и от самой речи наблюдается в третьем предложении. Непосредственная связь между производителем речи и ее субъектом отсутствует. Она определяется экстралингвистически: он – это лицо, предмет и т.д., которые попадают в сферу видения, понимания, знания и т.д. производителя речи. Здесь совершается наибольший отход производителя речи от собственной речи. Однако хотя производитель не проявляет себя в речи, он подразумевается.
Типы речи, формируемые на основе субъекта речи (местоимения я, ты, он) выражают в целом отмеченные выше значения. При этом наивысшая модальность связана с первым типом (от я), менее высокая – со вторым типом (от ты) и потенциальная – с третьим типом (от он). Источник же субъективно-модального значения – соотношение производителя речи и ее субъекта[15].
Таким образом, субъективная модальность – общеязыковая категория, проявляющая себя на всех уровнях языка, но прежде всего в синтаксисе предложения и текста, в речи. В языке СМ содержится как возможность, в речи она реализуется и предстает как категория, посредством которой осуществляется переход от языка к речи, т.е. как речеобразующая категория.
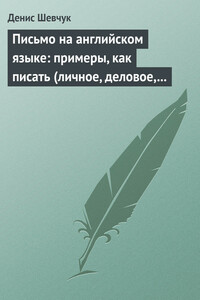
Как писать письмо на английском языке? Пособие представляет собой собрание образцов писем на английском языке, затрагивающих самые разнообразные стороны повседневной жизни. Это дружеские и деловые письма, письма – приглашения в гости и письма-благодарности, письма-извинения и письма-просьбы. Книга знакомит с этикетом написания письма на английском языке, некоторыми правилами английской пунктуации и орфографии, а также содержит справочные материалы, необходимые при написании писем. Пособие рассчитано на широкий круг лиц, владеющих английским языком в той или иной степени и стремящихся поддерживать письменные контакты с представителями англоязычных стран.
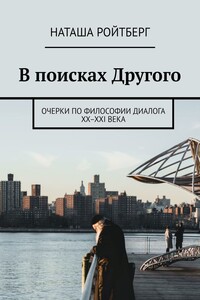
Мир вокруг нас не что иное, как постоянное перетекание и взаимодействие «своего» и «иного», «себя» и «не-себя», «самости» и «чуждости». Эта книга — о познании себя через другого, через опыт и призму инаковости, о поиске Другого: иного во мне самом, в культуре, в тексте. Другой всегда дан, и он же всегда находится в модусе ускользания. Пока мы ищем Другого, мы не перестаем задаваться вопросами и отвечать, мы все еще открыты для других и мира вокруг нас, мы все еще готовы принять ответственность.
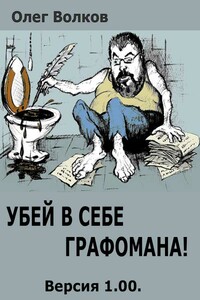
В этот сборник вошли статьи по литературному творчеству писателя Волкова Олега, которые были опубликованы им в личном блоге «Творчество как профессия» в популярной социальной сети «Живой журнал». В своих статьях Волков Олег затрагивает вопросы, которые либо плохо освещены в статьях и пособиях признанных писателей, либо не затронуты ими вообще. Например типы писателей, типичные недостатки графоманов, самоорганизация и прочее. Так же даны рекомендации по книгам и пособия по литературному творчеству, которые автор счёл наиболее полезными для начинающих писателей. Первая книга дилогии.
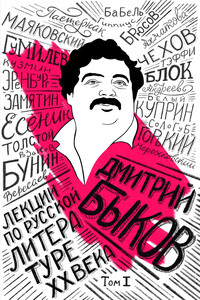
Эта книга – первая часть четырёхтомника, посвящённого русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить.В первый том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Чехов, Горький, Маяковский, Есенин, Платонов, Набоков и другие.Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга.Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».
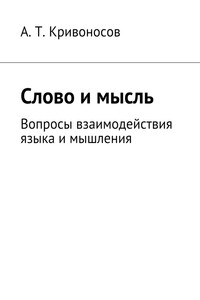
Это научное исследование посвящено не только критическому анализу и осмыслению давно ставшей традиционной и широко дискутируемой теории «взаимоотношения языка и мышления», но и всех основных, связанных с нею, теоретических проблем языкознания.
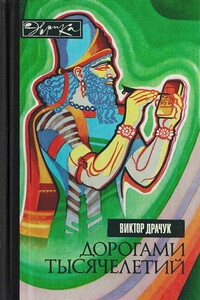
На скале Таш-Аир в Крыму археологи обнаружили загадочные изображения: фигурки людей, вооруженных и невооруженных, бегущих, лежащих; вздыбленная лошадь, разбитые повозки, собака, готовая к прыжку… Какую драму из жизни своего племени запечатлел древний художник? Удастся ли современному человеку разгадать истинный смысл событий многовековой давности? О развитии письма от рисунка к букве, о расшифровке древнейших письменностей разных народов увлекательно рассказывает автор. Особый раздел книги посвящен развитию письма на Руси.