Очерки - [10]
Заручаясь новыми угодьями и пустошами, отшельники посылали от себя в те места опытных людей из своих сотрудников "для посельства". Посланный "посельский старец" старался выбрать также удобное по местоположению, привольное, а стало быть, красивое и живописное: у воды и на горе. Этот старец ставил двор — самое первичное и безусловно необходимое условие оседлости, затем он обрабатывал землю вокруг жилья, сколько мог и хватало у него сил, приглашал поселенцев и вместе с ними занимал и оставлял за монастырем все то пространство земли по те места, куда — по красивому выражению древних актов — "их топор и соха ходили". От пришедшего требовалось только того, чтобы он был человек добрый (т. е. способный работать и дать при вступления в общину "явки — две деньги"). Бобыль получал только усадебное дворовое место, а полный крестьянин сверх того и жеребий во всех владениях монастырской общины. Монастырь богател и упрочивал свое бытие на многие грядущие века в то время, когда внутреннее его устройство давно уже поставлено было на незыблемом основании общинного устройства. За монастырскими стенами оно было то же самое, которое столько полюбилось всему русскому народу, а вводилось основателями-отшельниками, вышедшими из того же класса черносошных людей и также в глушь непочатых мест, и также не в одиночестве, а первоначальною общиною с товарищами, которым списатели «житий» святых присвоили общее имя учеников. В монастырскую общину, в число братии вступал каждый русский, бессемейный, который хотел жить по правилам, установленным для общины. Монастырские общины старательнее других хлопотали о том, чтобы "меж себя лихова человека не держать, обыскивать меж себя про лихова накрепко и на кого взойдет пословица недобрая и тех недобрых людей высылати вон". В обители место большака занимал настоятель с помощью "собора старцев", между которыми наиболее выдающиеся умом и опытом занимали должности келаря, ватажника, трапезника и дьяка. Общими трудами и строгим воздержанием собор старцев, свободный от многих житейских соблазнов, мог доходить до сбережений и скоплений как денежной казны, так и хлебных запасов, и додумывался до бесплатной трапезы всем приходящим и голодающим. Гостеприимство, всегда отпертые днем священные ворота, скромная, но сытная трапеза с чтением житий благочестивых людей — всегда служили приманкой для чужих пришельцев. Облегченное тягло, обязательная ссуда из запасных складов "на Семены и смены" (как говорили в старину), свобода от чужих судов и подчиненность ведомым и благочестивым людям делали из монастырской общины прибежище. К тому же около монастырей образовывались по временам сходбища окольного люда на торжки и базары, а потом и съезды жителей более отдаленных местностей на ярмарки. Монастыри наши, таким образом, стали содействовать в народе развитию торгового духа. Конечно, и это служило причиною тому, что сюда очень охотно шли наймиты, и монастырские слободы быстрее населялись именно около тех обителей, которые снабжены были многообразными привилегиями. Память святых основателей особенно чтилась народом, и слава их подвигов далеко была распространена и привлекательна. Иным монастырям, как и частным общинным хозяйствам, не счастливило, и они, как скоро и свободно основывались, также быстро и исчезали (как, например, после смутного времени из 35 митрополичьих монастырей досталось патриархам только 13).
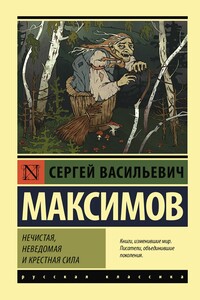
«Нечистая, неведомая и крестная сила» впервые была опубликована уже после смерти Сергея Васильевича, в 1903 году. Материал для книги автор собирал долгие годы во время своих пеших странствий по стране в поисках интересного этнографического материала. Книга погрузит читателя в загадочный мир верований, обрядов и праздников российского крестьянства; в мир, населенный прекрасными и жестокими русалками, капризными духами и жестокими оборотнями; в мир, не тронутый ни образованием, ни прогрессом, в котором христианство самым причудливым образом переплетается с остатками язычества. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
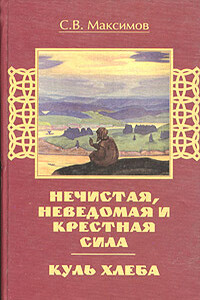
Хлеб — наша русская пища- Хлеб да соль! — говорит коренной русский человек, приветствуя всех, кого найдет за столом и за едой.— Хлеба кушать! — непременно отвечают ему в смысле:Милости просим, садись с нами и ешьВот об этом-то хлебе и об этом народе, возделывающем хлебные растения и употребляющем преимущественно мучную, хлебную, крахмалистую пищу, я хочу рассказать и прошу моих рассказов послушать. Как, по пословице, от хлеба-соли никогда не отказываются. Так и я кладу крепкую надежду, что вы не откажетесь дослушать до конца эти рассказы о хлебе или лучше, историю о куле с хлебом.
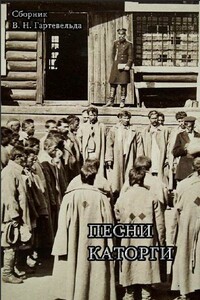
«Славное море, священный Байкал», «По диким степям Забайкалья» — сегодня музыкальная культура непредставима без этих песен. Известностью своей они обязаны выходцу из Швеции В. Н. Гартевельду; этот композитор, путешественник и этнограф в начале XX в. объехал всю Сибирь, записывая песни каторжан, бродяг и коренного сибирского населения. Концерты, на которых исполнялись обработанные Гартевельдом песни, впервые донесли до широкой публики сумрачную музыку каторжан, а его сборник «Песни каторги» (1912) стал одним из важнейших источников для изучения песенного фольклора сибирской каторги.

Книга С.В. Максимова (1831-1901) «Год на Севере» открыла целую эпоху в изучении Русского Севера, стала отправной точкой в развитии интереса к научному исследованию края. Это одна из крупнейших работ по этнографии данного региона в XIX в. Сочинение имеет исключительное значение, как с научной, так и с литературной точки зрения. Яркий стиль писателя, блестящее знание местных диалектных особенностей и исторических источников делают это сочинение выдающимся произведением литературы.
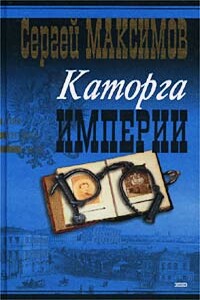
Книга С.Максимова `Каторга империи` до сих пор поражает полнотой и достоверностью содержащейся в ней информации. Рассказ об истории русской каторги автор обильно перемежает захватывающими сюжетами из жизни ее обитателей. Образы преступников всех мастей, бродяг, мздоимцев из числа полицейских ошеломят читателя. Но даже в гуще порока Максимов видит русского человека, бесхитростного в душе своей.Первое издание `Сибири` вышло тиражом 500 экземпляров для распространения только среди высших чиновников. В советские времена книга вообще не публиковалась.

Сборник рассказов и очерков о различных ремёслах русского крестьянства, раскрывающий патриархальный крестьянский мир, живущий по своим законам.

Опубликовано в журнале «Арт-город» (СПб.), №№ 21, 22, в интернете по адресу: http://scepsis.ru/library/id_117.html; с незначительными сокращениями под названием «Тащить и не пущать. Кремль наконец выработал молодежную политику» в журнале «Свободная мысль-XXI», 2001, № 11; последняя глава под названием «Погром молодых леваков» опубликована в газете «Континент», 2002, № 6; глава «Кремлевский “Гербалайф”» под названием «Толпа идущих… вместе. Эксперимент по созданию армии роботов» перепечатана в газете «Независимое обозрение», 2002, № 24, глава «Бюрократы» под названием «“Чего изволите…” Молодые карьеристы не ведают ни стыда ни совести» перепечатана в газете «Санкт-Петербургские ведомости», 29.01.2002.

Полный авторский текст. С редакционными сокращениями опубликовано в интернете, в «Русском журнале»: http://www.russ.ru/pole/Pusechki-i-leven-kie-lyubov-zla.
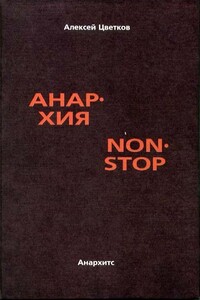
Анархизм, шантаж, шум, терроризм, революция - вся действительно актуальная тематика прямого политического действия разобрана в книге Алексея Цветкова вполне складно. Нет, правда, выборов и референдумов. Но этих привидений не встретишь на пути партизана. Зато другие духи - Бакунин, Махно, Маркузе, Прудон, Штирнер - выписаны вполне рельефно. Политология Цветкова - практическая. Набор его идей нельзя судить со стороны. Ими можно вооружиться - или же им противостоять.
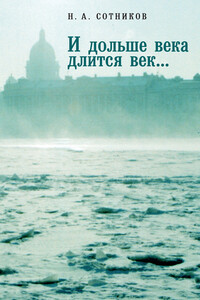
Николай Афанасьевич Сотников (1900–1978) прожил большую и творчески насыщенную жизнь. Издательский редактор, газетный журналист, редактор и киносценарист киностудии «Леннаучфильм», ответственный секретарь Совета по драматургии Союза писателей России – все эти должности обогатили творческий опыт писателя, расширили диапазон его творческих интересов. В жизни ему посчастливилось знать выдающихся деятелей литературы, искусства и науки, поведать о них современным читателям и зрителям.Данный мемориальный сборник представляет из себя как бы книги в одной книге: это документальные повествования о знаменитом французском шансонье Пьере Дегейтере, о династии дрессировщиков Дуровых, о выдающемся учёном Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.