Очарование темноты - [124]
Может быть, он хотел сделать великодушный жест? Едва ли. Кто мог увидеть его и кто будет знать о нем? Да и чем, и в чьих глазах мог украсить этот жест после стольких добрых дел, которые он сделал?
Может быть, он все еще дорожил им как мастером? Что за чепуха! Зачем он ему, когда таких десятки, которые так же не нужны, как и это мелкое литье? Что дает оно по сравнению с остальным? Прошла пора, когда радовали замки.
Так что же? А не все ли равно что! Может быть, ему хотелось сделать приятное Родиону. Он как-то странно отмалчивается после возвращения из-за границы. Что-то скрывает и носит в себе. Неужели и он также усомнился в том, чем жил все эти годы и еще большее число лет готовился к ним? И если это так, то он остается совершенно один. Никто не разделяет с ним его подвига.
Может быть, поговорить с Родионом и спросить его в упор?
Нет, пусть он побудет с самим собой, что-то выяснит для себя, и лучшее, здоровое непременно победит в нем. Ведь не мальчишка же он на пятом десятке лет. Не отвернется же он от самого себя.
Желая, чтобы Родион выяснил отношения с самим собой, этого же Акинфин пожелал и себе.
Свернув с главной Сибирской улицы на телеграф, Акинфин попросил вызвать на шальвинскую почту Скуратова.
Недолго ждал Платон Акинфин. И пермский, и шальвинский телеграфисты знали, кто и кого вызывает и как благодарят за это вызывающие и вызываемые.
Быстро перестукивали телеграфные ключи переговорные фразы.
«Хозяйничай, Родион. Я чувствую себя уставшим. Хочу проехать к Цецилии. Как там у вас?»
«Все хорошо. Чердынцев делает новые чудеса. Желаю счастливого пути. Поклон Лучининым. Приобрел ли икону Саваофа?»
«Саваоф отправляется в шальвинский собор. Меня не удивляет твое религиозное рвение, Родион, но икона нуждается в капитальной реставрации, а возможна ли она, я сомневаюсь. Прощай. Телеграфируй ежедневно в Петербург. Точка, Родион, точка».
Телеграфист премного благодарствовал за полученное и принял новое поручение узнать, когда поезд на Петербург, и заказать билеты господину Акинфину Платону Лукичу.
Поезд будет через два часа. Билеты обеспечены. Теперь оставалось послать губернатору благодарственную телеграмму и отправиться на новый вокзал, там пообедать, а потом мчаться через русские северные города, в которые вслед за гвоздями, замками, подковами, а в скором времени часами и швейными машинами придет и его равновесие, — на страх врагам и царям, оно будет властвовать и утверждать его гармоническую монополию.
Так думал Платон о величии созидаемого и задумываемого им. Его теперь поражало и удивляло, как он мог снисходить до никчемной полемики и раздражаться черт знает чем.
Все это выглядело ничтожными мелочами, жалкой пылью. А…
А через два дня по приезде в Петербург, казалось бы, еще более ничтожные мелочи заволакивали его и лелеемое им куда более раздражительной, терзающе-въедливой пылью.
По приезде произошла неприятная встреча с большой афишей, на которой зазывными, выкрутасными, крупными оранжевыми буквами кричали два знобящих слова: «КЛАВДИЙ АКИНФИН» — и тут же он сам во фраке, с гитарой также вычурной формы.
В афише перечислялось, что он исполняет и кто принимает участие в его концертах на Островах.
Останавливать экипаж и читать афишу значило бы опять «снисходить». Пусть поет, пусть позорит фамилию отца, ее нет теперь на фирменном знаке, и тень Клавдия не падет на «Равновесие».
— Не придавайте этому значения, Платоша, — в первый же день приезда заботливо попросил его Лев Алексеевич Лучинин, — в столице случается и не такое. Что вам за дело до Клавдия Лукича! Он для вас не более чем однофамилец, а скоро не будет звучать и им. Проконцертит свои акции и перейдет в разряд фрачных босяков. Ему, я полагаю, дорого приходится приплачивать за каждый свой концерт и содержать труппу своих шарлатанов. Хрисанф Аггеевич говорит, что вашему однофамильцу нужно платить и за услуги по бесплатной раздаче большего числа билетов, чтобы не выступать перед пустующими креслами.
Платону Лукичу оставалось только подтверждающее кивать головой да вставлять два-три ничего не значащих слова, таких, как «да-да» или «ну, конечно» и «я так же думаю».
Наскучавшемуся Льву Алексеевичу хотелось выговориться, и он рассказывал, перескакивая с одного на другое.
Он, оказывается, и в самом деле продал уже все имения за исключением подмосковного.
— Пусть остается на всякий случай. Оно стоит сущие гроши, и управляющий им, агрономически образованный человек, подобно лесничему Чердынцеву, покрывает расходы приходами от посевов и скота. А вообще-то, Платошенька, — вдруг с грустью сказал Лучинин, — хорошо бы нам всем последние годы пожить в подмосковной.
— Почему же последние? — насторожился Платон. — ? У нас еще будет впереди много и очень много лет.
— Мало, Платоша, очень мало. Вы не читаете заграничных газет, а я читаю…
— И что же в них можно вычитать? Одни сплетни, да распри, да самопохвальное рекламирование своих товаров и своей цивилизации. Все они на один лад. Уж я-то теперь знаю, как делаются газеты. Все они те же «Шалые-Шальвы», только печатаются не время от времени, а ежедневно… У Веничка была какая-то правда, какие-то очерки из действительной жизни, а там отвлечение внимания от того, к чему следует привлекать его.

«Обо всем своем детстве говорить, недели, пожалуй, мало будет. А так, кое-что – пожалуйста. Вот, например, случай был…Мы задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенной газеты. Когда мы вышли, уже смеркалось. Было тепло. Падал крупный, пушистый снег. Видимо, поэтому Тоня и Лида дорогой танцевали танец снежинок. Мой младший брат, ожидавший меня, чтобы идти вместе, подсмеивался над ними…».

Собранные в этой книге сказания — лишь малая толика того, что сохранила народная память об истории Земли Уральской, и тем не менее, трудно представить себе более увлекательное чтение.Книга адресована всем, кто интересуется историей родного края, учащимся средних и старших классов, учителям и родителям; может быть использована для уроков краеведения общеобразовательной школы.

Валентин Петрович Катаев (1897—1986) – русский советский писатель, драматург, поэт. Признанный классик современной отечественной литературы. В его писательском багаже произведения самых различных жанров – от прекрасных и мудрых детских сказок до мемуаров и литературоведческих статей. Особенную популярность среди российских читателей завоевали произведения В. П. Катаева для детей. Написанная в годы войны повесть «Сын полка» получила Сталинскую премию. Многие его произведения были экранизированы и стали классикой отечественного киноискусства.

Книга писателя-сибиряка Льва Черепанова рассказывает об одном экспериментальном рейсе рыболовецкого экипажа от Находки до прибрежий Аляски.Роман привлекает жизненно правдивым материалом, остротой поставленных проблем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу известного грузинского писателя Арчила Сулакаури вошли цикл «Чугуретские рассказы» и роман «Белый конь». В рассказах автор повествует об одном из колоритнейших уголков Тбилиси, Чугурети, о людях этого уголка, о взаимосвязях традиционного и нового в их жизни.
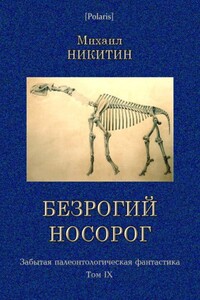
В повести сибирского писателя М. А. Никитина, написанной в 1931 г., рассказывается о том, как замечательное палеонтологическое открытие оказалось ненужным и невостребованным в обстановке «социалистического строительства». Но этим содержание повести не исчерпывается — в ней есть и мрачное «двойное дно». К книге приложены рецензии, раскрывающие идейную полемику вокруг повести, и другие материалы.

Сергей Федорович Буданцев (1896—1940) — известный русский советский писатель, творчество которого высоко оценивал М. Горький. Участник революционных событий и гражданской войны, Буданцев стал известен благодаря роману «Мятеж» (позднее названному «Командарм»), посвященному эсеровскому мятежу в Астрахани. Вслед за этим выходит роман «Саранча» — о выборе пути агрономом-энтомологом, поставленным перед необходимостью определить: с кем ты? Со стяжателями, грабящими народное добро, а значит — с врагами Советской власти, или с большевиком Эффендиевым, разоблачившим шайку скрытых врагов, свивших гнездо на пограничном хлопкоочистительном пункте.Произведения Буданцева написаны в реалистической манере, автор ярко живописует детали быта, крупным планом изображая события революции и гражданской войны, социалистического строительства.



