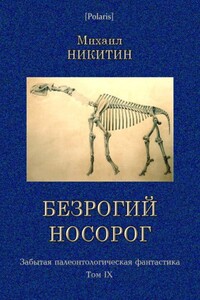— Что же, ваше превосходительство, грозит остальным?
— Их, полагаю я, следовало бы, чтобы не притуплять рачительность полиции, куда-то выслать на поселение. Но едва ли такими мерами следует лишний раз омрачать благословеннейшее празднование блистательного трехсотлетия хранимого богом царствующего великого дома Романовых…
Губернатор обратил взгляд к ростовому портрету царя, смахнул предполагаемую слезу умиления и маленьким серебряным колокольчиком вызвал чиновника.
— Прошу сделать все необходимое и сопроводить в моем экипаже господина Акинфина Платона Лукича в губернскую тюрьму для встречи. Платон Лукич скажет, кого он желает облагодетельствовать своею великодушной встречей…
Затем губернатор, любезнейше подав руку, звякнул шпорами и сказал:
— А если он вам, этот самый Рождественский, нужен, можете взять его и потом для проформы написать мне ходатайство о помиловании.
Пропуская строки проезда Акинфина по знакомым улицам города в губернаторском экипаже, перейдем к встрече в камере, освобожденной от сидевших вместе с Рождественским, послушаем, как встретил он пришедшего за ним.
— Хочешь снова показать свое милосердие, господин спаситель?
— Прежде здравствуй… Как хочешь, можешь не подавать мне руки. Это твое право… И я пожалуй, не обвиню тебя… В твою больную голову может прийти всякое. И я щажу твои заблуждения… Что же касается моего милосердия, то ты не нуждаешься в нем…
— Зато ты нуждаешься во мне.
— Тоже нет. Без тебя твои ученики подтверждают, каким добросовестным был их учитель.
— И все же ты выкупил твою тонколитейную машину, чтобы привинтить ее на прежнее место.
— Ты повторяешь слова Уланова…
Стук в. дверь прервал разговор. Человек в мундире внес два креслица, обитых плюшем, сказав: «Господа, вам так удобнее будет разговаривать», — удалился.
— Садись, Савелий, — предложил Акинфин.
— Насижусь еще… Да и мне лучше разговаривать стоя.
— Как хочешь. — Платон сел. — Савелий, ты боролся против нашей Кассы. Это, оказывается, не так опасно.
— Я борюсь против капиталистов.
— Но я, кажется не самый страшный из них. И не самый горький…
— Ты не страшен и не горек. Ты сладок и ядовит. Трудно представить, какой вред ты наносишь рабочим своими заботами о них. Ты убаюкиваешь своими благодеяниями самое главное в рабочем — его сознание. Сознание хозяина всего созданного им… Ты называешь революцию чем-то вроде болезни, а не выздоровлением от произвола и внушенного такими, как ты, позолоченного самозакабаления.
— Говори, говори, Савелий. Мне полезно знать суждение Молоканова о своих пороках и достоинствах.
— Так знай. Ты выдернул из наших рядов самых даровитых, самых умных. Ты обогатил, и отравил их, и сделал своей опорой, поставив над нами. Тебя и враждебные капитализму называют лучшим из зол. Я так не назову. Ты опасен своей лучшестью. Эта забота, тысячу раз повторяю я, и за мной рано или поздно повторят тысячи рабочих, есть забота о машинах.
— Плохо ты думаешь вместе с Улановым о Кассе. О вашей кровной рабочей организации.
— Рабочей? Посмотри мне в глаза и повтори.
— Изволь, я смотрю и повторяю…
Глаза Платона были чисты. Чисты и правдивы, как у маленького сына Рождественского.
— Колдун ты или самозавороженный дурак? Касса тоже пряник! Гора пряников. А Овчаров… Я не знаю, как и назвать его. Он от души хотел лучшего и сделал много хорошего. Но все же Овчаров выпекал для тебя одурманивающие пряники. Он фанатичен. Религиозен.
— Его никто не видел в церкви.
— И незачем там ему быть. Никодим отвадил не одного его своими проповедями. Одна старуха из верующих сказала, что этот Сашка Овчаров тайный немоляй без икон. И его храм — это Касса. А что такое Касса? Видимость из спичечных коробок. Дунет не тот ветер — и рассыплется. Выдерни из-под Кассы Овчарова — и нет ее. Изменись твои дела — и конец страховым процентам. Нужно всеобщее, обязательное, узаконенное страхование. Я за весь рабочий класс, не по частям, а в целом. Нужен большой, настоящий ветер, чтобы он сдул соглашателей Овчаровых, а вместе с ними и тех, с кем вошли они в предательское согласие…
Платону Лукичу ничего не оставалось, как встать и, не простившись, уйти, затем побывать у губернатора и сказать ему, что этот арестант не нужен его заводам, что ему полезнее быть подальше от всех слоев общества.
Платон поднялся, подошел к двери, толкнул ее и остановился на пороге. Остановившись, он повернулся к Рождественскому:
— Иди, Саваоф, и сметай! Я открываю тебе и Якову Самсоновичу двери и на мое сметение!
— Да-да, господин Акинфин, — услужливо подскочив, сказал тот же человек в мундире, — его превосходительство приказало по вашему соблаговолению вернуть господину Рождественскому его одежду… Принесите одежду Рождественского, — крикнул он, — и незамедлительно готовьте выпись на его убытие из тюрьмы!
Акинфин видел, как Савелий в изнеможении сел на креслице и в его глазах онемел испуг.