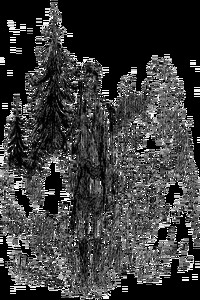Обретение надежды - [6]
Липа сломалась примерно в полуметре от земли, выжив до самого конца весь свой долгий век. Подойдя поближе, Вересов увидел неровную, зазубренную рвань комля, коричневое месиво трухи. Дерево лишь казалось несокрушимым, на самом деле оно уже давно сгнило на корню, и приходилось лишь удивляться, что рухнуло именно теперь, а не весной, когда нахлобучило на голые ветки тяжеленный малахай листьев. Теперь листья уже осыпа́лись, шуршащей жестяной рекой стекая на тротуар, на мостовую; с каждым днем, с каждым порывом ветра все легче становилась ноша, которую несла на себе липа; теперь бы ей, кажется, стоять и стоять до следующей весны, когда ветры вновь ударят в тугой зеленый парус, а она не устояла — сдалась.
Надрываясь, гудели машины — по обе стороны завала уже вытянулись длинные нетерпеливые хвосты. Машинам не было никакого дела до рухнувшего дерева, их ждали срочные грузы, дальние дороги, и какой-то запасливый шофер в потрепанной кожаной куртке уже вытащил из-под сиденья старенького грузовичка пилу и топор и скликал помощников расчищать дорогу.
Со всех сторон к рухнувшей липе спешили зеваки: интересно! В сгущающейся толпе Вересов почувствовал себя лишним. Он зачерпнул горсть трухи. Сухая и мягкая, как дорожная пыль, труха коричневым дымком просеялась между пальцами. «Придите и примите последнее целование…» Пришел. Принял. Пора возвращаться. До отлета в Москву — час сорок семь. На столе — неоконченная статья. Может, удастся дописать? Все-таки час сорок семь, а работы осталось — кот наплакал: две-три странички. Хорошо бы окончить, чтоб не заниматься этим в гостинице, урывками, на совещании. Нет, ничего не выйдет, не то настроение. А при чем тут настроение? Да при том при самом…
«Ольга обрадуется, — с внезапным раздражением подумал Николай Александрович. — Все ей солнца не хватало, света… Теперь будет много света, хоть отбавляй!»
С пугающей ясностью он ощутил, что его раздражение вызвано вовсе не видом рухнувшей липы. Жалко, конечно, ну да что ж, посадят другую, глядишь, через сто лет повыше этой вымахает. Не липы — устойчивости нету, равновесия, душевного покоя. Словно идешь по тонкому, лишь вчера морозом схваченному льду, а под ногами трещит, и следы наливаются черной стылой водой. Словно все сломалось, как это дерево, все, чем ты жил, на чем стоял, что казалось тебе вечным и незыблемым, как сама земля…
— Здравия желаем, товарищ профессор! — услышал Николай Александрович зычный, по-командирски раскатистый голос и обернулся, непроизвольным движением сунув за спину руку в древесной трухе, как когда-то прятал от матери зажатый в кулаке кусок сахара, если она, случалось, застигала у открытого буфета. Перед ним, вскинув плотно сжатые пальцы к лаковому козырьку фуражки, стоял моложавый на вид полковник, летчик. Невысокий, почти квадратный, с редкими оспинками на круглом широкоскулом лице и белесыми соломенными бровками, под которыми весело щурились синие глаза, полковник усмехался, поблескивая золотой коронкой, тщательно отутюженный, выбритый, начищенный. Красивая, по-мальчишечьи стройная женщина с очень короткими светлыми волосами, небрежно отброшенными к затылку, испуганно дергала полковника за рукав, сконфуженная его грохочущим басом.
И жизнерадостный полковник, и его красивая жена показались Вересову знакомыми. Он подумал, что определенно встречался с ними, но когда и где — не припомнил.
Николай Александрович уже давно привык к тому, что с ним здороваются люди, которых он не может вспомнить, — бывшие больные, их родственники, друзья и сослуживцы — и не стал рыться в памяти. Молча пожал полковнику руку, поклонился его жене, уже оправившейся от смущения, и заученным жестом поднес к глазам часы: мол, сердечно рад встрече, однако, извините, спешу, как-нибудь в другой раз…
Но отделаться от полковника было не так-то просто.
2
По равнодушному, отсутствующему взгляду Вересова Горбачев понял, что профессор его не узнал. Но Григория Константиновича это не смутило. Обычное дело. Ежели на военную мерку, — полный генерал: доктор медицинских наук, профессор, директор научно-исследовательского института. Ничего не попишешь: солдаты знают своих генералов, а им каждого в лицо да по фамилии запомнить — никакой памяти не напасешься. Вот и ты перед ним — солдат, хоть и с полковничьими погонами. Потому что у него таких, как ты, — полная клиника, порой и поважнее шишки попадают. Тем более, видел он тебя всего раза три-четыре: на консилиуме, на обходах — все мельком. Вот если бы Сухоруков или Ниночка Минаева, — эти, небось, не глядели бы на тебя, как баран на новые ворота, два месяца нянчились. А профессор что ж… смешно было бы обижаться.
Правда, Горбачева покоробил нетерпеливый жест, с каким Николай Александрович поднес к глазам часы, — он был не из тех, кто набивается в знакомые или любит околачиваться на глазах у начальства. Но Григорий Константинович проглотил обиду, как глотал лекарства, — лишь губы от горечи дернулись. Надо…
Если бы это было надо только ему одному… Черта лысого стал бы полковник унижаться не то что перед каким-то профессором — перед самим маршалом авиации. Лично ему уже ничего не надо было. Он знал, что песенка его спета, что жить ему осталось от силы пять-шесть месяцев и ни Вересов, ни сто тысяч других профессоров и академиков, которые, что ни говори, все-таки не даром, наверно, едят свой хлеб, ему уже не помогут. Летчик-истребитель, провоевавший от звонка до звонка, потерявший столько друзей, что ими можно было бы укомплектовать целый авиационный полк — и какой полк! — он сам так часто бывал на волосок от гибели, что давно приучил себя об этом не думать: двум смертям не бывать, а одной не миновать. Он не был фаталистом, заранее примирившимся с неизбежностью; просто понимал, что еще хватит времени на раздумья, когда болезнь свалит с ног и прикует к постели, когда все, чем жил, сведется к одному — думать. О друзьях-товарищах, которых пережил ты и которые переживут тебя. О сладостном чувстве восторга, охватывавшем тебя всякий раз, когда самолет отрывался от шершавой бетонки и взмывал в небо. О том, какой уютной и прибранной, словно дом к празднику, кажется сверху земля. О Рите. И снова о Рите. И еще о Рите. Потому что, в конечном счете, Рита — самое дорогое, что ты оставишь после себя и что тебе горше всего будет оставлять.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
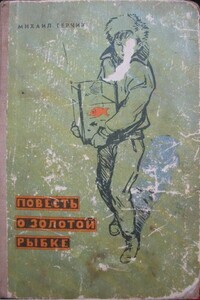
В повести рассказывается об увлечениях подростков, о том, как облагораживает человеческие души прикосновение к волшебному и бесконечно разнообразному миру природы.
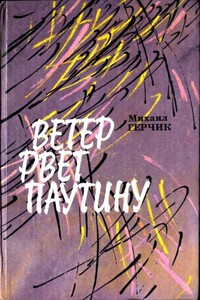
В глухом полесском углу, на хуторе Качай-Болото, свили себе гнездо бывшие предатели Петр Сачок и Гавриил Фокин — главари секты пятидесятников. В черную паутину сектантства попала мать пионера Саши Щербинина. Саша не может с этим мириться, но он почти бессилен: тяжелая болезнь приковала его к постели.О том, как надежно в трудную минуту плечо друга, как свежий ветер нашей жизни рвет в клочья паутину мракобесия и изуверства, рассказывается в повести.
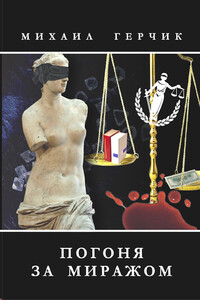
Многоплановый социальный роман, посвященный жгучим проблемам современности: зарождению класса предпринимателей, жестокой, иссушающей душу и толкающей на преступление власти денег. Читателю предлагается увлекательный роман, в котором переплелись судьбы и сложные отношения многих героев. В нем есть не только злость и ненависть, но и любовь, и самопожертвование, и готовность отдать жизнь за любимого человека… Второе название романа — "Оружие для убийцы".

О жизни ребят одного двора, о пионерской дружбе, о романтике подлинной и мнимой рассказывает новая повесть Михаила Герчика.

В глухом полесском углу, на хуторе Качай-Болото, свили себе гнездо бывшие предатели Петр Сачок и Гавриил Фокин - главари секты пятидесятников. В черную паутину сектантства попала мать пионера Саши Щербинина. Саша не может с этим мириться, но он почти бессилен: тяжелая болезнь приковала его к постели.О том, как надежно в трудную минуту плечо друга, как свежий ветер нашей жизни рвет в клочья паутину мракобесия и изуверства, рассказывается в повести.

Выразительность образов, сочный, щедрый юмор — отличают роман о нефтяниках «Твердая порода». Автор знакомит читателя с многонациональной бригадой буровиков. У каждого свой характер, у каждого своя жизнь, но судьба у всех общая — рабочая. Татары и русские, украинцы и армяне, казахи все вместе они и составляют ту «твердую породу», из которой создается рабочий коллектив.
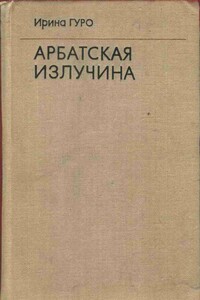
Книга Ирины Гуро посвящена Москве и москвичам. В центре романа — судьба кадрового военного Дробитько, который по болезни вынужден оставить армию, но вновь находит себя в непривычной гражданской жизни, работая в коллективе людей, создающих красоту родного города, украшая его садами и парками. Случай сталкивает Дробитько с Лавровским, человеком, прошедшим сложный жизненный путь. Долгие годы провел он в эмиграции, но под конец жизни обрел родину. Писательница рассказывает о тех непростых обстоятельствах, в которых сложились характеры ее героев.

Повести, вошедшие в новую книгу писателя, посвящены нашей современности. Одна из них остро рассматривает проблемы семьи. Другая рассказывает о профессиональной нечистоплотности врача, терпящего по этой причине нравственный крах. Повесть «Воин» — о том, как нелегко приходится человеку, которому до всего есть дело. Повесть «Порог» — о мужественном уходе из жизни человека, достойно ее прожившего.

Наташа и Алёша познакомились и подружились в пионерском лагере. Дружба бы продолжилась и после лагеря, но вот беда, они второпях забыли обменяться городскими адресами. Начинается новый учебный год, начинаются школьные заботы. Встретятся ли вновь Наташа с Алёшей, перерастёт их дружба во что-то большее?