Обо всём - [17]
Иногда ночью, раз в квартал, Гаврюша приходил ко мне спать. Хотя всегда, с первого дня он спал у Элки в ногах, грея их, и как она говорила: «Забирал боль». Он всегда неожиданно подваливался к моему боку и начинал мурчать, тыкаться лбом, прося, чтобы я его погладила и начинал вылизывать гладящую руку.
И тут я ему прощала всё. А он прощал меня. За вафельные и махровые полотенца. Вперёд на три квартала авансом. Спал он со мной всю ночь, до утра, мы на какое-то время мирились, а потом уж воевали до следующего его ночного прихода. Так и жили.
Когда Элла умерла, Гаврюша стражем почётного караула все три дня сидел на подоконнике. Не ел, не пил и не пачкал лотки. Он сидел и не мигая смотрел на свою любимую Элку. Не спал.
В день похорон я его вообще не видела, не до него было.
Утром, когда явились соседи (хозяева Путьки) с жэковцами занимать уже как три дня положенную им по «закону» жилплощадь, Гаврюша выскочил из-под Элкиной кровати, где он хоронился и страдал два дня, и с диким шипом бросился на мужика с топором, который хотел, видимо, выламывать замок. Гаврюша защищал меня…
Я шикнула на него, а этот маленький боец вдруг резко развернулся, прыгнул на меня, вцепился всеми четырьмя лапами, со всеми когтями в кофту, в кожу под ней, до крови, больно, и начал стонать, как человек. Причитать. Люди с топором и ордером на квартиру молча наблюдали за нами. «Гаврюх, не плачь, я тебя не брошу», — не смогла его оторвать, и не пыталась. Надела поверх него шубу, подхватила свою котомку, и пошли мы с Гаврюхой жить дальше.
Самая чудесная пасхальная ночь была у меня в прошлом веке, в 1998 году от Рождества Христова. Все предыдущие и последующие годы я отчаянно регентовала в городских храмах, а в том году, я уже не помню по какой причине, оказалась на Страстной седмице в Новичихе у бабушки.
Всю неделю мы с бабушкой мыли, белили, чистили двор, выбивали перины и подушки, выколачивали зимнюю пыль из половиков, вытаскивали в кладовку вторые рамы, меняли зимние плотные занавески на лёгкий капроновый тюль, изничтожали посредством веника паутину в тёмных углах, подбеливали черёмухи и яблони, хозяйничали, не щадя живота ни моего, ни бабулиного.
А с Чистого четверга начались опары. Бабушка до последнего светлого дня (а она ослепла к концу жизни и всё своё нелёгкое бытие потом делила на «светлое» — зрячее и «тёмное» — незрячее) сама пекла хлеб в русской печи.
С утра, после того как истопится печь (опаре должно быть тепло, в холоде она жить и пузыриться не желает), из кисловато пахнущего сатинового белого мешка извлекались самодельные дрожжи, из ларя добывалась мука, из кладовки несли боевое деревянное сито с двумя самодельными заплатами на капроновой сетке, там же брали огромные жестяные банки из-под селёдки-иваси для форм, на стол стелили белую, с выгоревшими ветками сирени, клеёнку, и начиналось хлебное священнодейство. Бабуля надевала чистый халат, огромный до пола фартук, повязывала голову ситцевым светлым платком, читала «Отче наш», «Богородицу» и приступала к таинству сотворения хлеба.
Мука всегда просеивалась дважды, и из неё на столе вырастала большая пушистая горка, на вершине которой бабушка всегда рисовала крестик. Тем временем подходила опара, бабуля придирчиво изучала количество пузырьков и, если была удовлетворена результатом, начинала месить тесто в огромнейшей «малированной» кастрюле литров на сорок. Сначала большой деревянной лопаткой, а потом руками.
И я всегда в этот момент смеялась над ней. Она была невысокая, некрупная, а теста в этой кастрюлище получалось ровно в половину бабушкиного веса, и когда она его вываливала на стол и начинала месить, со стороны это выглядело как будто бабушка с ним борется. Кто кого. А я, дылда здоровенная, сидела с ней рядом, делала ставки и хохотала до слёз, потому что бабушка, помимо этой борьбы с тестом, ещё и очень смешно меня ругала за этот смех. «Хлеб любит молитву и тишину», — говорила она.
Потом пекли паски (куличами и пасхами их никто не называл — именно паски). Туда уже шло другое, сдобное, щедро умасленное и жёлтое-прежёлтое от домашних яиц тесто. Сверху обязательно выкладывали крестик из теста, варили густой сахарный сироп или взбивали белки с сахаром для обливки. Потом красили яйца, обязательно шелухой, а иногда, для шика, в разноцветных хэбэшных сорокакопеечных авоськах.
Зайдёшь в дом с улицы и тебя сразу обволакивает этот запах горячего хлеба, пасочная ваниль, и бабушка там — живая, улыбчивая, в белом лёгком облаке из муки, зовёт: «Гуля, ну где ты бродишь, сбегай до колодца за водой!» Хватаешь коромысло, цепляешь на него звонкие вёдра и несёшься бегом. Обратно, в гору, уже павой выступаешь — тяжело. Никогда больше этого не будет… Никогда…
А в том приснопамятном году, впервые за всю историю Новичихи зарегистрировали приход, отдали под храм старую косую избу из чёрных от времени брёвен, прислали молодого священника и благословили служить Светлое Воскресение своими силами. И тут по словам бабушкиной сестры, тёти Клавы: «Ульку нам Господь и подсуропил»; в пятницу у бабушки собралась делегация из старых читалок и на общем собрании, не беря во внимание мои отговорки, постановили: «Петь Паску будет Ульяна. Она храмотная, в семинарии училась. Молодая, опять же. Мы своими старыми голосами Господу досаждать в праздник не будем. „Христос Воскреся“, так и быть, споём с тобой и на крестном ходу „Воскресение Твое Христе Спасе“, а всё остальное — будь добра сама-сама».
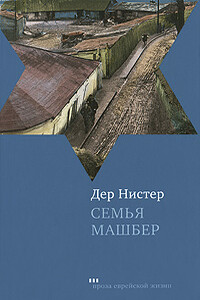
От издателяРоман «Семья Машбер» написан в традиции литературной эпопеи. Дер Нистер прослеживает судьбу большой семьи, вплетая нить повествования в исторический контекст. Это дает писателю возможность рассказать о жизни самых разных слоев общества — от нищих и голодных бродяг до крупных банкиров и предпринимателей, от ремесленников до хитрых ростовщиков, от тюремных заключенных до хасидов. Непростые, изломанные судьбы персонажей романа — трагический отзвук сложного исторического периода, в котором укоренен творческий путь Дер Нистера.
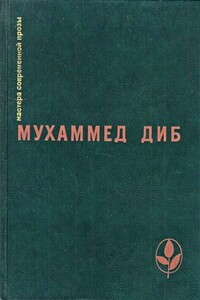
Мухаммед Диб — крупнейший современный алжирский писатель, автор многих романов и новелл, получивших широкое международное признание.В романах «Кто помнит о море», «Пляска смерти», «Бог в стране варваров», «Повелитель охоты», автор затрагивает острые проблемы современной жизни как в странах, освободившихся от колониализма, так и в странах капиталистического Запада.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
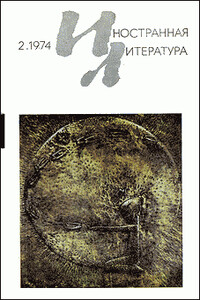
ОЛЛИ (ВЯЙНО АЛЬБЕРТ НУОРТЕВА) — OLLI (VAJNO ALBERT NUORTEVA) (1889–1967).Финский писатель. Имя Олли широко известно в Скандинавских странах как автора многочисленных коротких рассказов, фельетонов и юморесок. Был редактором ряда газет и периодических изданий, составителем сборников пьес и фельетонов. В 1960 г. ему присуждена почетная премия Финского культурного фонда.Публикуемый рассказ взят из первого тома избранных произведений Олли («Valitut Tekoset». Helsinki, Otava, 1964).

Ф. Дюрренматт — классик швейцарской литературы (род. В 1921 г.), выдающийся художник слова, один из крупнейших драматургов XX века. Его комедии и детективные романы известны широкому кругу советских читателей.В своих романах, повестях и рассказах он тяготеет к притчево-философскому осмыслению мира, к беспощадно точному анализу его состояния.

Памфлет раскрывает одну из запретных страниц жизни советской молодежной суперэлиты — студентов Института международных отношений. Герой памфлета проходит путь от невинного лукавства — через ловушки институтской политической жандармерии — до полной потери моральных критериев… Автор рисует теневые стороны жизни советских дипломатов, посольских колоний, спекуляцию, склоки, интриги, доносы. Развенчивает миф о социальной справедливости в СССР и равенстве перед законом. Разоблачает лицемерие, коррупцию и двойную мораль в высших эшелонах партгосаппарата.