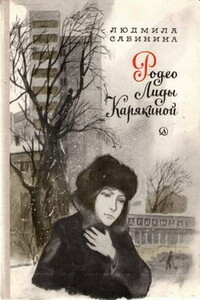В окошке замаячила круглоголовая, короткорукая фигура повара. Сысоев выбросил на прилавок три тарелки с кашей.
— Три-каш! — возвестил он. — Кому?
Подошел парень, свалил все три каши на одну тарелку, понес.
— Куча мала! — пробасил парень.
Повар бухнул на прилавок еще четыре тарелки.
— Четырь-каш! Забирай!
Утирая рот платочком, подошла женщина, забрала каши.
— Э-эх, ты! — Прасковья Семеновна укоризненно покачала головой. — Трикаш, двакаш… — Сысоев ты, Сысоев, смысла нет в тебе. С такой работы кашей сыт не будешь. Доходит до тебя или нет? Ужо вот директор-то приедет, поговорю с ним. Ей-богу, поговорю…
Повар на это ничего не сказал, сжал и без того маленький рот, исчез. На его месте появилась судомойка Лизавета.
— Чего там?
— Чего, чего! Восемнадцать первых подавай, чего!
Судомойка покосилась на девчачий стол быстрыми узкими глазами.
— Подождете. Посуды нет.
— А ты поживее поворачивайся, тарелок грязных навалом! Да и знать должна — люди придут.
Тетя Паша начала сердиться не на шутку, возвысила голос:
— Да я с тобой и разговаривать-то не хочу, подавай мне благоверного твоего, Сысоева! Чего он смылся-то?! Чтобы сейчас мне восемнадцать обедов на стол!
Тетя Паша крепко стукнула кулаком но прилавку. Широкое желтоватое лицо судомойки качнулось в окошке, подбритые в ниточку брови скривились.
— Ты чего это галдишь, чего ты галдишь?
Быстренько возник Сысоев с горой тарелок на подносе.
— Лизавета, отойди… А ну, забирай перь-р-вое! Раз — кулеш, два — кулеш, три — кулеш…
Иришка с Любой подошли, стали принимать тарелки, относить на стол.
— Вот, наконец-то появляются первые ростки хорошего, — рассмеялась Ксана.
— Поздновато, поздновато, — весело зашумели девчата. — У нас уж животы подвело.
Иришка попробовала суп, поморщилась:
— Весьма слабые ростки. Солнца, что ли, не хватило?
— Зато воды хоть отбавляй, — проворчала Люба, — целое наводнение, вот что.
Все рассмеялись.
— Ничего, девки, — утешила тетя Паша, — завтра воскресенье, оладьями всех накормлю. Пораньше приходите, довольны будете. Всей гурьбой приходите.
Дома подруги умылись, переоделись в чистое и хотели было немедленно завалиться на сеновале, как вдруг услыхали истошные вопли.
Все три разом выскочили на крыльцо, прислушались. Вопли неслись с соседнего двора. Кинулись туда. Веры Степановны дома не оказалось, а кричали в сарае за огородом. У Ксаны даже поджилки затряслись, так жалостно кто-то там стонал и подвывал. Иришка бежала вся бледная…
Добежали. Люба решительным движением распахнула сарайные ворота, и осветилась картина: весь пол был засыпан колотыми дровами, а высоко под потолком, судорожно вцепившись руками в металлическую перекладину, висел долгожитель Аким Родионыч в белых трусах и майке. На плече у него растопорщился большой огненно-оранжевый петух. Петух подскакивал и клевал Родионыча в макушку, Родионыч охал, болтал ногами в воздухе, тощие бледные руки напряглись, натянулись — вот-вот сорвется… Девочки остолбенели.
— Ну и ну! — проговорила наконец Люба.
— Ой! Что это с вами, Аким Родионыч? — взвизгнула Иришка. — Спускайтесь скорее, что вы?
У Ксаны язык к гортани присох.
— Ничего особенного, — фальцетом зачастил Аким Родионыч, — занятие! На турнике… Занятия на турнике!
— А петух-то? Петух-то зачем?
— Неувязочка, неувязочка, — частил Родионыч. — Ох, ой, да пошел ты, черт тебя подери, говорят, шлепнемся! О-ой! Шлепнемся же, ей-богу! Сгинь! Вот привязался!
Петух еще яростнее накинулся на бедного Родионыча.
— Вы спускайтесь! — кричали девчата.
— Накладочка получилась, — отвечал Родионыч. — Как спускаться? Влез-то сюда по дровам, а поленница, видите, рассыпалась. Ногой задел, рассыпалась, окаянная… Ой-ой!
— Бежим за стремянкой! — кинулась было Иришка.
Но тут Родионыч отчаянно задергал ногами, взмахнул рукой, пытаясь столкнуть забияку-петуха. На одной руке не удержался и с грохотом сверзился вниз. Девочки подбежали, стали поднимать незадачливого спортсмена.
— Ничего-ничего, — бодро частил Родионыч, — первое боевое крещение, так сказать… Первый блин комом…
Прихрамывая, пошел в угол сарая отыскивать рубашку и брюки. Сверху, нахохлившись, глядел на него петух. Родионыч на ходу погрозил петуху кулачком.
— Слишком уж высоко. Аким Родионыч, — укоризненно заговорила Иришка. — Сами понимаете, разве бывают такие турники?
— А это, видите ли, для просушки рыбы, — словоохотливо объяснял Родионыч. — Ничего, придется переделать в соответствии, э-э… с существующими нормами. И этого… — он еще раз погрозил петуху, — головореза сейчас же вон! Вон! Тут тебе не курятник!
Петух наверху сварливо заклекотал, захлопал крыльями.
Пришлось проводить старика до дома. Дорогой Родионыч слезно просил не рассказывать ничего супруге. Девчата обещали. И только добежав до своего сеновала, разразились хохотом. Смеялись долго, и даже после того, как забрались к себе наверх, растянулись на мягком душистом сене, все еще не переставали хохотать. Успокоились наконец, затихли.
— Отдохнешь тут, — хмуро проговорила Люба, и все снова захохотали.
— Ой, Любка, молчи уж лучше, — взмолилась Иришка, — а то лопнем тут из-за тебя! Со смеху лопнем!
— А чего я такого сказала? Конечно, не отдохнешь. Там этот Сысоев со своими «трикашами», не успеешь очухаться — тут Родионыч, спортсмен олимпийский…