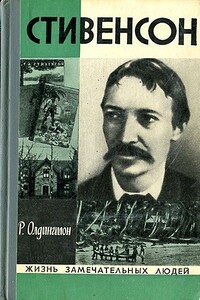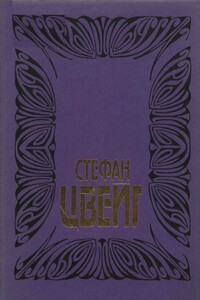Это письмо Гарольд имел неосторожность показать кое-кому из своих «друзей», горько жалуясь на поведение Эстер и патетически сокрушаясь о том, что «эта женщина» настраивает против него дочь. «Друзья» выражали ему сочувствие, а за спиной высмеивали его.
Эстер думала, что теперь Гарольд оставит ее в покое. Но она ошиблась. В начале тысяча девятьсот тридцать первого года от него пришло второе письмо:
«Дорогая Эстер! Твое обидное, полное горечи письмо так меня расстроило, что я некоторое время не в силах был на него ответить. Но чувства отца и мужа заставляют меня снова обратиться к тебе с вопросом, не пересмотришь ли ты свое решение, слишком опрометчивое и поспешное, жестокое по отношению ко мне и к дочери, которая, наверное, сильно тоскует по уюту нашего семейного гнездышка. Почему бы нам не встретиться, так сказать, за круглым столом и не обсудить все возможности?
В Сити сейчас полнейший застой, так что я решил закрыть контору: содержать ее — только бесполезный расход. Помаленьку подыскиваю себе дело, в котором я смогу полностью применить свои коммерческие способности. При нынешней конъюнктуре Отечеству нужны его наиболее деятельные умы, и я предложил уже свои услуги одной из крупнейших компаний. Нет ни малейшего сомнения, что я займу видное место: сейчас как никогда ценится финансовый гений, ибо нужда в нем очень велика.
А пока положение мое еще не упрочено, я буду тебе весьма признателен, если ты ссудишь мне сотню-другую, чтобы я мог продержаться до лучших времен.
Любящий тебя муж Гарольд».
Первым побуждением Эстер было швырнуть это послание в огонь и оставить его без ответа, но затем какое-то смутное чувство ответственности («уж раз имела глупость выйти за такого человека, то расплачивайся») заставило ее навести справки о делах Гарольда. Она узнала, что он живет в одной комнате с женщиной, которая была когда-то его секретаршей, а теперь тиранит его беспощадно. Работы у него нет, и он пробавляется тем, что подрабатывает случайными делишками в Сити. Он все еще носит свою неизменную, но уже изрядно потрепанную визитку и ветхий цилиндр, делая отчаянные усилия поддержать дутое величие знатного рода Формби-Пэттов и свою репутацию «финансиста». Большинство его старых «друзей» теперь гнушаются им, некоторые жалеют и «одалживают» ему небольшие суммы, но для тех и других он стал посмешищем.
Сама тому удивляясь, Эстер ловила себя на мысли: «Бедный Гарольд! Он все-таки не такой подлец, как другие, те, кто сейчас имеет наглость смеяться над ним». Она написала ему письмо уже поласковее, чем первое, и послала десять фунтов. Через две-три недели он опять написал — и вышло так, что с этих пор Эстер стала посылать ему десять — двенадцать фунтов ежемесячно. Он горячо уговаривал ее встретиться, — вероятно, надеялся, что Эстер спасет его от мегеры, с которой он жил. Но у Эстер хватало благоразумия ограничиваться денежной помощью.
Да и эту помощь ей пришлось оказывать ему не так уж долго. Гарольд сильно одряхлел и скоро умер от разрыва сердца в нескольких шагах от конторы, на двери которой прежде гордо красовалась табличка «Г. Формби-Пэтт, финансист». Весть о падении английского фунта его доконала. Как и приличествует усердному служителю божества, именуемого «фунт стерлингов», он скончался одновременно с фетишем, которому поклонялся и для которого пожертвовал всем, что придает нашей жизни настоящую ценность и прелесть.
Только две женщины — да и те не в трауре — шли за его гробом.