О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери - [120]
Предыдущая тетрадь у меня есть. Я туда присоединю и это. А сейчас кончаю, время свидания истекло, скоро напишу еще. У нас было сияющее жаркое лето, оно прошло, но вокруг нашей избушки еще догорают астры и настурции, они здесь не боятся заморозков.
Я устаю и старею, ссыхаюсь, как цветок, засушенный в Уголовно-процессуальном кодексе, и первым признаком того, что действительно старею, является то, что это совсем меня не волнует. Спасибо тебе, целую тебя, горжусь тобой. Будь здоров.
Твоя Аля.
<ПАСТЕРНАКУ>; 12 октября 1953
Дорогой мой Борис! У нас — долгие темные ночи, короткие дни и тишина необычайная — все замерло в ожидании зимы, а снега все нет. Южный ветер сбивает с толку даже северное сияние. Осень — странная и тревожная, как весна. Ушли пароходы, улетели птицы, на Енисее же — ни льдинки и на душе — тоже. Так хорошо, когда не по графику, даже в природе! Я недавно перечитывала — в который раз и в который раз по-новому — «Анну Каренину» и в который раз задумалась о твоем — неясном для меня и вместе с тем несомненном родстве с Толстым. Я не так-то давно (по времени) читала твою прозу, но однообразие моей жизни, изо дня в день засоряемой мелочами, уже заставило меня позабыть многое. Не то что «позабыть», но потерять ключ к этой вещи, понимаешь? Кстати, зачем тебе понадобилось забирать ее у меня? Я люблю перечитывать, и, как ни странно, с первого раза лучше воспринимаю стихи, чем прозу, а вот как раз твою книгу лишена возможности перечитывать вчитываясь. Я не решаюсь просить тебя о том, чтобы ты мне прислал хотя бы то же самое, что тогда, зная, что ты не забудешь об этом, когда найдешь возможным. Так вот, вы настолько с ним разные, что говорить о родстве и сходстве кажется даже нелепым, и меня злит то, что я сейчас брожу вслепую и даже нащупать не могу, в чем тут дело. Ах, Боже мой, и главное, что в этом слепом состоянии я нахожусь почти постоянно, все время «по усам текло, а в рот не попало», о том, чтобы не только сделать что-то, но хоть бы додуматься до чего-то, не может быть и речи. Эта жизнь, дробленная на мелкие кусочки, размолотая ежедневными, насущными и никому не нужными мелочами, постепенно и неумолимо превращает меня в клинического идиота. Даже ты это замечаешь, несмотря на все мои усилия казаться умницей, и пишешь мне все реже.
Недавно видела в «Огоньке», посвященном Толстому, пастель твоего отца, и столько мне сразу вспомнилось и подумалось, что я бросила работу и опустила руки — весь тот чудесный мир светлых красок и мягких очертаний, вставший передо мной из синего альбома работ Л. О. там, в библиотеке рязанского училища. Как же он умел передавать силу и самобытность при помощи прессованного угля и пастели, как же он сломал и переделал технику пастели, бывшей до того достоянием нежностей и сладостей французского 18-го и немного 19-го века, — какой же он был мастер! Я ужасно люблю его иллюстрации к «Воскресению», и твой чудесный портрет, и все о Толстом, все зарисовки, и его Шаляпина. И еще я вспомнила белого плюшевого мишку, которого они с твоей мамой подарили маленькому Муру. Мур назвал его «Мумсом» и спал с ним и ходил гулять, и зацеловал ему мордочку до блеска. И еще я подумала о той великолепной круговой и трудовой поруке людей большого дара и чистой души, побеждающей время и временщиков, о великой, неиссякаемой, всепобеждающей силе правды и человечности. Может быть, именно в этом — твое родство с Толстым? Я совсем не об этом хотела писать тебе, ты сам говорил, что писать нужно только о том, что вполне ясно тебе самому, я хотела очень поблагодарить тебя за присланное и извиниться за то, что не написала сразу. Но что же поделаешь, если меня всегда тянет писать именно о нелепом — и именно тебе!
Крепко целую тебя.
Твоя Аля.
<ПАСТЕРНАКУ>; 12 января 1954
Борис мой дорогой, запоздало поздравляю с Новым годом, желаю тебе здоровья, вдохновенья и побольше возможностей его осуществлять. Я только что получила письмо от Лили — она пишет, что твой «Фауст»

Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.
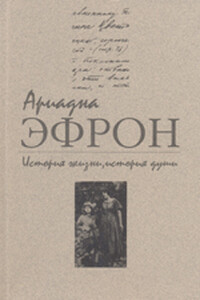
Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.

Дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, Ариадна, талантливая художница, литератор, оставила удивительные воспоминания о своей матери - родном человеке, великой поэтессе, просто женщине со всеми ее слабостями, пристрастиями, талантом... У них были непростые отношения, трагические судьбы. Пройдя через круги ада эмиграции, нужды, ссылок, лагерей, Ариадна Эфрон успела выполнить свой долг - записать то, что помнит о матери, "высказать умолчанное". Эти свидетельства, незамутненные вымыслом, спустя долгие десятилетия открывают нам подлинную Цветаеву.

Трехтомник наиболее полно представляет эпистолярное и литературное наследие Ариадны Сергеевны Эфрон: письма, воспоминания, прозу, устные рассказы, стихотворения и стихотворные переводы. Издание иллюстрировано фотографиями и авторскими работами.

Марину Цветаеву, вернувшуюся на родину после семнадцати лет эмиграции, в СССР не встретили с распростертыми объятиями. Скорее наоборот. Мешали жить, дышать, не давали печататься. И все-таки она стала одним из самых читаемых и любимых поэтов России. Этот феномен объясняется не только ее талантом. Ариадна Эфрон, дочь поэта, сделала целью своей жизни возвращение творчества матери на родину. Она подарила Марине Цветаевой вторую жизнь — яркую и триумфальную. Ценой каких усилий это стало возможно, читатель узнает из писем Ариадны Сергеевны Эфрон (1912–1975), адресованных Анне Александровне Саакянц (1932–2002), редактору первых цветаевских изданий, а впоследствии ведущему исследователю жизни и творчества поэта. В этой книге повествуется о М. Цветаевой, ее окружении, ее стихах и прозе и, конечно, о времени — событиях литературных и бытовых, отраженных в зарисовках жизни большой страны в непростое, переломное время. Книга содержит ненормативную лексику.

«Константин Михайлов в поддевке, с бесчисленным множеством складок кругом талии, мял в руках свой картуз, стоя у порога комнаты. – Так пойдемте, что ли?.. – предложил он. – С четверть часа уж, наверное, прошло, пока я назад ворочался… Лев Николаевич не долго обедает. Я накинул пальто, и мы вышли из хаты. Волнение невольно охватило меня, когда пошли мы, спускаясь с пригорка к пруду, чтобы, миновав его, снова подняться к усадьбе знаменитого писателя…».
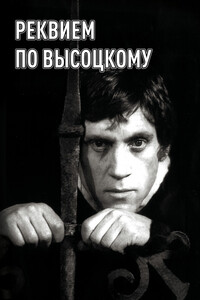
Впервые в истории литературы женщина-поэт и прозаик посвятила книгу мужчине-поэту. Светлана Ермолаева писала ее с 1980 года, со дня кончины Владимира Высоцкого и по сей день, 37 лет ежегодной памяти не только по датам рождения и кончины, но в любой день или ночь. Больше половины жизни она посвятила любимому человеку, ее стихи — реквием скорбной памяти, высокой до небес. Ведь Он — Высоцкий, от слова Высоко, и сей час живет в ее сердце. Сны, где Владимир живой и любящий — нескончаемая поэма мистической любви.

Роман о жизни и борьбе Фридриха Энгельса, одного из основоположников марксизма, соратника и друга Карла Маркса. Электронное издание без иллюстраций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.