Новый мир, 2013 № 04 - [11]
— Может, траву какую ядовитую нашли.
— Вот горе-то… — вздыхает Екатерина Григорьевна. — Напасть на мою голову.
Куры дохнут — одна за другой. Но не все. Некоторые дохнут, а другие покружат, покружат по двору, упадут на землю, распластаются, подергаются, захрипят и некоторое время лежат совершенно неподвижно — дохлые, да и только. Но потом приходят в себя. Поднимают вдруг голову, подтягивают крылья, встают и, покачиваясь, отходят в сторонку. Половина умирает, а половина каким-то образом очухивается. Может, все дело в том, что им судорога схватывает горло и они от этого задыхаются? А некоторым все-таки удается отдышаться… Что если в тот момент, когда они падают на землю, помассировать им грудку и горлышко? Кажется, помогает.
Екатерина Григорьевна в отчаяние — уже двенадцать дохлых! Как же теперь пережить зиму без кур и без яиц?
— Я буду спать на улице, — говорю я.
— Что за выдумки? — возмущается мама. — Что значит — на улице?
— Не на улице, конечно, тут, возле дома.
— Ни в коем случае!
— Ты не понимаешь? Я не могу вынести этой духоты, я задыхаюсь тут!
— Полтора месяца переносила, а теперь, нате здрасте, задыхается!
— Полтора месяца было не так жарко.
— Не выдумывай!
— Как хочешь, в дом я не зайду.
— Боже мой, боже мой, что за проклятье! За какие грехи, чем я это все заслужила?! — стонет мама, но в конце концов соглашается, чтобы я вынесла свою постель наружу и легла под окном.
Уснуть я не могу, мне и на улице нечем дышать. Плохо дело, плохо, все тело болит. Болит — не то слово, разрывается от боли, руку не могу поднять. Пальцем шевельну, и то больно.
Ночь лунная. Очередная курица принимается кружить по двору, падает на землю, бьется, судорожно хлопает крыльями и наконец замирает, уткнув голову в песок.
Если она умрет, то и я умру, — загадываю я. Умирать вроде бы не хочется, но и думать нет сил — нестерпимая боль. Ночь длится, длится, время стоит на месте.
Рассветает наконец. Курица, похоже, шевельнулась. Подтягивает крылья, поднимает голову. Значит, не сдохла...
— Что такое? Почему ты лежишь? — возмущается мама.
Я молчу.
— Что за фокусы? Одевайся, пора завтракать.
— Мне плохо, — произношу я с великим трудом.
— Что значит — плохо? — Мама щупает мой лоб. — Боже мой, ты вся горишь! Только этого не хватало! Что за проклятье… Перекупалась! Тут, наверно, и врача нет.
Врач есть, но далеко, в больнице, в Урзуфе. Екатерина Григорьевна говорит, что до больницы километров двадцать.
Невозможно оставаться под окном, солнце припекает. Но и встать я не могу. При всем желании — не могу… Екатерина Григорьевна взваливает меня на спину и перетаскивает на лавку под платаном. Мучительное перемещение, не знаю, как я это выдержала, но если лежать совершенно без движения, боль понемногу утихает.
— Больница эта, знаете, тоже не очень… — сообщает Екатерина Григорьевна. — Я вам не сказывала, у нас ведь до этой еще одна девочка была. Эту-то по той Татьянкой назвали. Шестой годок уже шел. Воспалением легких заболела. Летом тут жара, а зимой такие ветра дуют, не приведи господь. Заболела, забрали в больницу. Ничего, поправилась. Я приехала навестить, врачиха говорит: будем выписывать. Сама Максим Платоновичу в совхоз позвонила, чтоб с машиной приезжал. Я ее, Танюшку-то, одела, сидим в коридоре, ждем, пока она выписку оформит. Танечка вроде задремала, головку положила мне на грудь, я ее обнимаю, соскучилась ведь, целых две недели она в больнице. А тут электричество отключилось. Ну, это у нас постоянно случается, зимой особенно. Свет из окошка слабенький, но все-таки видно, сестра по коридору идет, кислородную подушку несет. И только она с нами поравнялась, вроде как хлопнуло что-то, будто выстрел такой слабенький, и ветром меня обдало. Особенным каким-то, со свежестью. Сестра повернулась и назад пошла. Ойкнула вроде бы и пошла. А мне ни к чему, я сижу, доченьку к себе прижимаю, только чувствую, обмякла она как-то вся, вниз подалась. Ну, спит, думаю, вот и осела. А как свет включили, вижу, она вся синяя и не дышит. Я закричала, врачиха прибежала, сестру позвала. Сестра говорит: подушка кислородная у меня лопнула. Видать, прямо ей в лицо, вот она и захлебнулась. А после отказалась от своих слов. Записали: от воспаления легких скончалась. Максим Платонович плакал даже, никогда я его не видела, чтобы он слезам волю давал, а тут не выдержал. “Как от воспаления легких? — говорит. — Вы мне за ней приезжать велели, сказали, выздоровела, выписываем. А теперь от воспаления легких?” А они: “От чего бы ни умерла, ее не вернуть, а неприятности эти ни нам, ни вам не нужны”. Так и осталось. Сестра, конечно, чем она виновата? Старая подушка, треснутая, может, накачали слишком туго, вот и лопнула. Никто, выходит, не виноват. А нам как перенести? Как от сердца оторвать?..
— Судьба, — вздыхает мама, — если б знала, где упала…
— Прямо в лицо… — повторяет Екатерина Григорьевна, утирая слезы. — Так иногда заскучаю, сяду и как будто обнимаю. Деточка моя милая… За что ж ей Господь такую смерть судил?
— Одни убиваются, что умер ребенок, — рассуждает мама, — а другие и рады бы избавиться, да не получается. Я, знаете, в жизни всякое повидала. Ничего… Говорят, дети, умершие во младенчестве, на небесах ангелочками становятся. Есть такое поверье. Вот и ваша Таня...
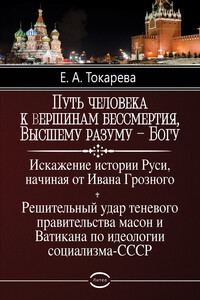
Прошло 10 лет после гибели автора этой книги Токаревой Елены Алексеевны. Настала пора публикации данной работы, хотя свои мысли она озвучивала и при жизни, за что и поплатилась своей жизнью. Помни это читатель и знай, что Слово великая сила, которая угодна не каждому, особенно власти. Книга посвящена многим событиям, происходящим в ХХ в., включая историческое прошлое со времён Ивана Грозного. Особенность данной работы заключается в перекличке столетий. Идеология социализма, равноправия и справедливости для всех народов СССР являлась примером для подражания всему человечеству с развитием усовершенствования этой идеологии, но, увы.

Установленный в России начиная с 1991 года господином Ельциным единоличный режим правления страной, лишивший граждан основных экономических, а также социальных прав и свобод, приобрел черты, характерные для организованного преступного сообщества.Причины этого явления и его последствия можно понять, проследив на страницах романа «Выбор» историю простых граждан нашей страны на отрезке времени с 1989-го по 1996 год.Воспитанные советским режимом в духе коллективизма граждане и в мыслях не допускали, что средства массовой информации, подконтрольные государству, могут бесстыдно лгать.В таких условиях простому человеку надлежало сделать свой выбор: остаться приверженным идеалам добра и справедливости или пополнить новоявленную стаю, где «человек человеку – волк».
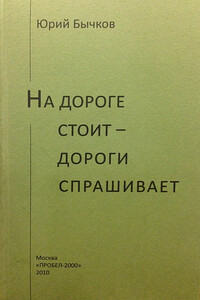
Как и в первой книге трилогии «Предназначение», авторская, личная интонация придаёт историческому по существу повествованию характер душевной исповеди. Эффект переноса читателя в описываемую эпоху разителен, впечатляющ – пятидесятые годы, неизвестные нынешнему поколению, становятся близкими, понятными, важными в осознании протяжённого во времени понятия Родина. Поэтические включения в прозаический текст и в целом поэтическая структура книги «На дороге стоит – дороги спрашивает» воспринимаеются как яркая характеристическая черта пятидесятых годов, в которых себя в полной мере делами, свершениями, проявили как физики, так и лирики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повести и рассказы молодого петербургского писателя Антона Задорожного, вошедшие в эту книгу, раскрывают современное состояние готической прозы в авторском понимании этого жанра. Произведения написаны в период с 2011 по 2014 год на стыке психологического реализма, мистики и постмодерна и затрагивают социально заостренные темы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.