Новый мир, 2012 № 08 - [21]
На посадку пригласили с опозданием и везли притихшим автобусом меж спящих слоновьих “Туполевых”. Туман стелился по бетонке. Самолет ждал в стороне. Свистели на малых оборотах турбины. Выдыхали пар, на малых глотках морозного воздуха, негромко переговаривались, ждали. Ту-154 все-таки красив: похож на стрелу, выпущенную из его же фюзеляжа. Кто-то и когда-то сказал, что это последний лайнер, по которому видно, что он реактивный. Сама эта эстетика, романтическая... И Павел, мерзнущий у подножия красавца бога RA, чувствовал это прекрасно.
По вип-пассажирам не было видно, что они вип. Так же топтались у трапа, допотопного, нижней — автомобильной — частью похожего на картинки в старинной книжке про Незнайку... Кто-то с шиком отшвырнул сигарету: ветер погнал ее под колесищи. Все-таки элита бывает только тогда, когда есть чернь. А когда в салоне все — бизнес-класс... Наверху только стюардесса, у люка, с корешками талонов, пронятая всеми высокими ветрами, мудрая. Поднимались малыми партиями. И прежде чем шагнуть в низкий ковролиновый мирок, Паша хлопнул ладонью по мокрому железу, как по плечу: не подведи.
Ничего же плохого не может с ними случиться? Стоп, неужели он сам поверит во все эти заклинания...
Их с Игорем посадили в самом конце салона, отделив от остального человечества пятью или шестью рядами спинок, полубеззубыми. Когда они уже катили, стюардесса на фоне шторок виртуозно дирижировала самолетом, то есть размахивала кислородной маской.
— А какие рассказы ты повез в Москву? — спросил вдруг Паша с участием, завозившись в ремнях. Лайнер круто брал вверх, так что вздыбились шторки, резал под углом пространство над перекошенными лесами, и хотелось упереться взглядом в переднюю спинку, не думая ни о чем.
В местной газете рассказ Игоря впервые напечатали, когда автор пошел класс в десятый и стояла сухая багровая осень. Писателя ждала немеркнущая слава. Газетный лист повесили на стенде у школьной библиотеки. Отзывы одноклассниц Игорь втайне записывал. На шутливые “разводы” одноклассников поддался, выкатив с гонорара крепкого пива — “обмывать”. (Тайной оставался факт, что гонорар оказался меньше стоимости пива и автор свои карманные добавлял.) Наконец, это повлияло даже на “профориентацию” (был такой дурацкий щит в вестибюле, полный постороннего). В журналистику Игоря запихнули прямо с урока физкультуры.
Ненавистный физрук предложил — раз уж Игорь печатается — разместить в газете заметку о каких-то успехах школьной команды в городских соревнованиях (с подтекстом: чем на глупости место печатное тратить...). Негласно это означало послабления в физ-ре, по которой пожизненно маячило твердое “три”, и потоки глумлений типа “жиртрест”. В позоре мелочных обид шагал Игорь в редакцию, снова и снова.
Физрука он презирал всей душой. Тот же воодушевлялся. В эпоху информационных войн физрук взял за привычку во время баскетбола подсаживаться к одинокому Игорю (освобождение от подвижных игр!) и обсуждать скандальные передачи Сергея Доренко. Вернее, пересказывать свои впечатления, скудные, все переломанные без мата. Например, он садился рядом, разящий потом и чесноком, и говорил: а че-то я вчера смотрел Доренко, задремал (“пьяный был”, — проносилось у Игоря), проснулся — а на экране ничего, помехи. И Игорь брезгливо разъяснял известный уже всему городу факт, что вчера губернатор распорядился срочно оборвать трансляцию... Физрук шумно радовался в ключе “а я-то проснулся, а на экране нет ниче!”. Игорь презрительно улыбался. А потом шагал, ледяной, с распаренными парнями в раздевалку.
Такие сложные дороги вели Игоря в журналистику и литературу.
Они оказались тем более извилисты, ибо Игорь скандально провалил поступление на филфак. Полгода он занимался аж с завкафедрой, прогорклым профессором, отношения с которым не особо сложились. (Газетные листы с рассказами, горделиво принесенные в первый же день, тот читал оглушительно холодно.) Затем был с позором изгнан с экзамена, пойманный на шпаргалке, и удалялся с мертвой улыбкой, а прогорклый профессор смотрел в окно. В панике успели перекинуть документы на некий социально-гуманитарный факультет — там еще принимали. Но это уже совсем другая история. Игорь ткнулся лбом в неохватную небесную тундру, ледяную, как стекло, да он и ткнулся в стекло. На высоте — по фактуре — оно стало чуть арбузным.
Когда долетели до ясной, безоблачной Москвы, то долго кружили над аэропортом, и то, что кружили, было понятно только по ослепительному утреннему солнцу. Оно — молодое и хищное — заглядывало в салон то с одной, то с другой стороны, как маньяк, и медленно ползало по замершим лицам. Все почему-то подавленно молчали, и Паша подумал, что, наверное, ужас аварийной посадки — это так.
Еще он подумал, что Шереметьево, наверное, болезненно напомнит октябрь, поездку с Наташей, Наташу. Боль не то чтобы заедала, но... Паша не столько, пожалуй, переживал, сколько знал, что переживает, что так и должно быть. И кстати, не напомнило. Они вообще попали в здание аэровокзала через другой терминал. Автобусы — и вовсе сверхъестественные, что твои марсианские корабли, столько “наворотов”, и даже как-то оскорбляло, что такая техника обслуживает такие скучные, такие земные и вчерашние самолеты.

Это история о матери и ее дочке Анжелике. Две потерянные души, два одиночества. Мама в поисках счастья и любви, в бесконечном страхе за свою дочь. Она не замечает, как ломает Анжелику, как сильно маленькая девочка перенимает мамины страхи и вбирает их в себя. Чтобы в дальнейшем повторить мамину судьбу, отчаянно борясь с одиночеством и тревогой.Мама – обычная женщина, та, что пытается одна воспитывать дочь, та, что отчаянно цепляется за мужчин, с которыми сталкивает ее судьба.Анжелика – маленькая девочка, которой так не хватает любви и ласки.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.
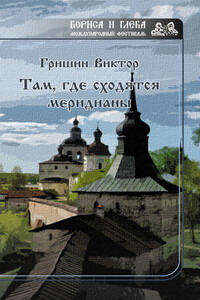
Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.

Какие бы великие или маленькие дела не планировал в своей жизни человек, какие бы свершения ни осуществлял под действием желаний или долгов, в конечном итоге он рано или поздно обнаруживает как легко и просто корректирует ВСЁ неумолимое ВРЕМЯ. Оно, как одно из основных понятий философии и физики, является мерой длительности существования всего живого на земле и неживого тоже. Его необратимое течение, только в одном направлении, из прошлого, через настоящее в будущее, бывает таким медленным, когда ты в ожидании каких-то событий, или наоборот стремительно текущим, когда твой день спрессован делами и каждая секунда на счету.

Коллектив газеты, обречённой на закрытие, получает предложение – переехать в неведомый город, расположенный на севере, в кратере, чтобы продолжать работу там. Очень скоро журналисты понимают, что обрели значительно больше, чем ожидали – они получили возможность уйти. От мёртвых смыслов. От привычных действий. От навязанной и ненастоящей жизни. Потому что наступает осень, и звёздный свет серебрист, и кто-то должен развести костёр в заброшенном маяке… Нет однозначных ответов, но выход есть для каждого. Неслучайно жанр книги определен как «повесть для тех, кто совершает путь».

Секреты успеха и выживания сегодня такие же, как две с половиной тысячи лет назад.Китай. 482 год до нашей эры. Шел к концу период «Весны и Осени» – время кровавых междоусобиц, заговоров и ожесточенной борьбы за власть. Князь Гоу Жиан провел в плену три года и вернулся домой с жаждой мщения. Вскоре план его изощренной мести начал воплощаться весьма необычным способом…2004 год. Российский бизнесмен Данил Залесный отправляется в Китай для заключения важной сделки. Однако все пошло не так, как планировалось. Переговоры раз за разом срываются, что приводит Данила к смутным догадкам о внутреннем заговоре.
