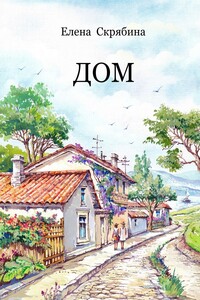Какой-то странный звук раздался рядом. Повернул голову — и увидел алкаша: это он крякнул. И он же добавил с некоторой завистью:
— Ну дают! — Он думал, соображал. — И ведь меня мог бы...
Пришел наконец к верному выводу:
— Это дело надо отметить.
И зашагал к автобусной остановке, ничуть уже не интересуясь тем, что произошло на его глазах три минуты назад. А уже разворачивалась “скорая помощь”...
Он шагал, санитары “скорой” наклонились над экономкой, сочтя бесполезным хлопотать у тела Петра Сергеевича. А я вернулся в приемное. Во мне ворочалась мысль о собственной подлости, которая, однако же, была вполне извинительной и вообще не подпадала ни под какие параметры или градации того, что называется неопределенно “совестью”. Ведь я мог бы броситься наперерез грузовику и остановить его. Я мог бы заорать так, чтоб голос мой пробил шапку Петра Сергеевича и платок экономки. Я мог бы сделать стремительный рывок и настигнуть удалявшуюся пару.
Но — ни того, ни другого, ни третьего я не сделал, потому что предрешенно знал: он будет убит, Петр Сергеевич, “божья кара” его не минует, знание — это смертельная, вгоняющая в могилу обуза, болезнь, лекарство от которой — уход в покой невежества, в комфорт безмыслия, в роль постороннего, — горькое и сладостное чувство сопричастности к воле природы, величие и ничтожество души…
…безмерность души, прерванная окриком: “Мерзлушкин! Вы чего молчите, Геннадий Мерзлушкин?”
Я стоял у окошечка, паспорт и направление убежавшего на радостях алкаша читались врачом. Губы мои проговорили: “Да, Мерзлушкин — это я!” Уши мои услышали: “Ремонт в седьмом отделении... Будем прибывших распределять по всей больнице. Вы пойдете в тридцатое отделение”.
Это было спасением. Мне так надо было уйти от людей и дел последних месяцев и последних лет. Я шел к тридцатому отделению, уже зная, что там — сплошь наркоманы, и надеясь продержаться хотя бы неделю. Отдохнуть. Одуматься.
Спасение, потому что только в психбольницах настоящие люди, все абстракции их — это “больно” или “голодно”. Потому что права третья жена Матвея, понявшая суть Ильи-Зубодера: Россия — это симуляция страдания, и все истинные интеллигенты когда-нибудь да потянутся в психлечебницы.
О, благословенный самотек! О, разгневанный и ликующий работяга Мерзлушкин и его лицедейство, его перевоплощение, подвигнувшее меня на вдохновенное вранье, пером медсестры отделения перенесенное в историю болезни, на меня заведенную! Я стал наркоманом с пятилетним стажем, употребляющим “колеса”, то есть фармацевтические препараты с дурманящими свойствами; порой, легко соврал, я еще и прикладываюсь к стакану водки с таблеткой седуксена. Чистая кожа на руках и неколотые вены запрещали мне возводить на себя напраслину, я не “ширялся”, я не прибегал ни к мышечным, ни к внутривенным уколам; я не пожаловался медсестре на ломку, то есть на приступы абстиненции, от которых корчится, испытывая неимоверные страдания, человек: мне они еще неведомы. Тем не менее гуманное тридцатое отделение и обо мне позаботилось: вечером медсестра отсыпала мне в ладонь несколько разноцветных таблеток. Человек сорок с явным пристрастием к наркотикам толпилось в коридоре и в палатах отделения; во время ужина кто-то беспощадно обругал врачей, поваров и прочих, швырнул тарелку с супом в угол, а компотом залил работающий телевизор, что вызвало тихое одобрение коллектива, медсестра и дежурный врач не посчитали случившееся чем-то из ряда вон выходящим. Еда, конечно, не та, что в кормушке, но вполне, вполне… В туалетах пахло горящей газетной бумагой, на огне поджаривали нечто в чайных ложках, что казалось мне странным, потому что у всех ведь были шприцы, прятались они в полых ножках кроватей, ампулы же с морфием или чем-то подобным “больные” получали подарками с неба. На утренней прогулке все пациенты отделения разбредались и вглядывались в снег, время от времени запуская туда руку и вытаскивая ампулы, подброшенные собратьями по болезни или недугу, а точнее — по искусству или по вере, ибо наркоманы считали себя как бы посвященными в рыцарский орден, носителями высшего знания — и поэтому презирали алкоголиков. Меня они считали мещанином, лезущим во дворянство; в первый же вечер кто-то из этих дворян предъявил мне горсть выданных ему таблеток и предложил сиреневые свои обменять на мои красненькие, на что я сострадательно пошел. Такие обмены длились двое суток, затем обнаружилось: ничто человеческое наркоманам не чуждо; отыскался стукач, он и доложил о странном пациенте, который явно косит: таблеток не принимает, не “ширяется”, от “граммульки” спирта не отказался. Возмездие последовало незамедлительно, заведующий отделением призвал меня к себе, на столе появилась медицинская карта стационарного больного, то есть история болезни, и правда вылезла наружу, да и алкаш по фамилии Мерзлушкин обыскался дома паспорта, и приемное отделение забило тревогу.
— Сколько тебе лет? — начал установление личности врач, и я, неподвижно сидя на месте, заметался, потому что не мог высчитать время от момента рождения до текущей минуты, и все прошедшие года казались мне извращением не моей жизни, а чужой, и мне стало страшно: так кто же я?