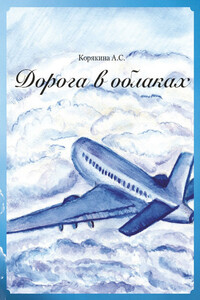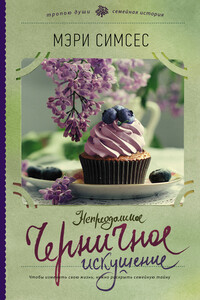А ведь всей этой блатной оголтелости не форточку, не окно открыл, но стену проломил и впустил в наш дом погань не кто иной, как Владимир Семенович Высоцкий. Он, он, дорогуша, он, кумир современников, хрипел им о недостатках, о провалах нашей жизни и морали. Теперь, когда публика насытилась напевом Высоцкого и сделалось возможно прочесть его всего, приумолкли восторженные вопли о страдальце-гении. Не был он никаким страдальцем, забубенной головушкой он был и забулдыгой, пьяницей и наркоманом, но при этом умел прекрасно играть на сцене и в кино, виртуозно владел гитарой и сгубил себя и свой талант сам.
А пахан Сукачев дубасит кулаком по гитаре, кривляется, ощерив нечищеный хищный рот, изрыгает какое-то на давней помойке собранное плесневелое барахло. Мы тоже пели этакие шедевры в детстве и юности, вышибая слезу у слабых сердцем девчонок и старух. Тогдашний альбомный шлягер: «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан, девушку с глазами дикой серны…» — вспоминается ныне с улыбкой, но вот же с рыданием, с хрипатым блатным вывертом, всерьез выдает залежалый товар здоровенный дядя, и в школах, в вузах учившиеся, выросшие в стране с древней певческой и великой вокальной культурой сидят люди в зале и платочком вытирают сентиментальные слезы и сладкие сопли.
И все это поганство, повторяю, развело наше телевидение. Говорят, в штате его обретаются десятки тысяч человек, но взгляните на периферийные российские телепрограммы (они очень отличаются от столичных, как и вся наша периферийная жизнь) — там сплошные сериалы, повторы прошлогодних передач, азартные игры, да круглые сутки в окошке шаманят лохматые так называемые поэты, композиторы и певцы, которые только вчера с горшка сошли или из колонии для матерых головорезов вылезли.
Раньше хоть престарелые вожди часто умирали, и в траурные дни звучала камерная музыка. Так во время похорон Клима Ворошилова я познакомился с Великим искусством Великого дирижера Герберта фон Караяна, а ныне вот жди, когда ГКЧП случится и покажут «Лебединое озеро» иль чего-нибудь где-нибудь взорвут, а следовало бы подорвать хоть с одного угла Останкино, чтоб перетряхнуло там все до основания и шайку бездельников, всю эту трепливую шушеру сменили достойные, работящие люди.
В журнале «Континент» я однажды прочитал дерзкую и умную статью талантливой поэтессы Марины Кудимовой, в которой она доказательно объясняла вредное влияние поэзии Высоцкого на нынешнее время, на молодежь и всякую востроухую, моде подверженную публику. Кудимова попутно подсоединила к Высоцкому и Есенина: они, мол, они двое возбудили и обслужили блатной сброд. Нет, у Есенина блатнятина, растленность в души вселяющая, занимает очень мало места, в основном он чистый, нежный поэт, как родничок, выбившийся из желтого песочка в сосновом бору. Благотворное влияние его на русскую поэзию есть и пребудет вечно. А хриплый голос, выразивший хриплое, нездоровое время, уже не звучит повсеместно, и время его уйдет, как только будут ликвидированы недостатки нашей современной жизни.
Время поющего фельетона и базарного рева, как свидетельствует жизнь, всегда было недолговечно. Вспомните хотя бы бродячих певцов-вагантов — уж как были остроязыки и бойки ребята, но сделались лишь достоянием истории.
Был у меня случай на Высших литературных курсах, это еще в шестидесятых годах. Узнавши, что я не отказываюсь читать рукописи младших коллег, студенты ко мне, как к таборному дядьке, валом повалили с прозой, со стихами и даже драмами.
Однажды пришел славненький, светловолосый, на Есенина похожий парень, застенчиво попросил посмотреть тетрадочку со своими стихами.
Стихи были еще наивные, незрелые, с явно выраженной подражательностью кумиру и почти земляку его Сергею Есенину. Но была в стихах искра Божья, веяло от них молодостью, добрым миром, и славно уже звучала «тема женщины», для поэта всевечная, обязательная, что вступительный экзамен. И я приободрил молодого поэта, сказал ему добрые слова, удивив его тем, что угадал — он влюблен, и заверил, что так оно и должно быть, поэту надо почаще влюбляться.
Через полгода примерно светлоголовый мой поэт явился в мою комнату мрачнее тучи и сердито сунул на мой стол в трубку свернутые стихи.
Божечки мои! Что произошло с человеком! Его возлюбленная встретила другого парня и, видимо, уяснив, что от поэта скоро не получишь ни молока, ни шерсти, вышла замуж за строителя с той же стройки, где работала маляром-штукатуром.
И чего мой поэт только не наговорил своей бывшей возлюбленной, какими словами он ее не клеймил, каких только кар для нее не придумал, даже нафталином осыпал и мещанкой обозвал, как героический Павка Корчагин девушку Тоню, в юности спасшую его, имевшую с ним пылкий роман.
— Ну-ка сядь на стул и послушай стих, который давно, давно сочинен, — сказал я поэту и начал читать завет и молитву великого поэта:
Я вас любил; любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
…Когда дело дошло до заключительной строки «как дай вам Бог любимой быть другим», молодой поэт уж так низко опустил голову, так побелел, что и смотреть на него сделалось жалко.