Новолунье - [21]
Вот Тебеньчиха показалась на телеге: ездила на склад за продуктами для яслей. Увидев на дороге мужиков, объезжает их. Никто и ногой не пошевельнул. Баба ругается почем зря, стегает лошадь хворостиной, дергает вожжи, лезет с дороги в крапиву. Того и гляди, под берег телега свалится.
Объехав, оборачивается, ругает мужиков, они хохочут, Тебеньчиха — еще. Мужики громче хохочут. И сильней всех недавно прибившийся к ней в мужья плотогон хохочет.
Мужики о ней говорят минут десять, не беря во внимание мужа.
— Во чертова душа! И как с такой спать ложиться?
— А ты сам попробуй.
— Так мне же она Кума.
— Что-то я тебя не знаю, — с преувеличенным безразличием вклинивается в разговор муж — молодой плотогон, недавно женившийся на ней, — всех кумовей своих помню, а о тебе первый раз слышу...
— Так то ж отговорка одна... насчет кумы.
Опять хохочут. Но уже не так громко. Стихают и начинают зевать. Но тут слышится топот копыт. Из переулка бригадир едет. Лицо темное и жалкое. С бригадиром мужики стараются ладить: в больницу ли старуху свезти, за хворостом съездить, а весной огород вспахать — без лошади в этой степи погибель.
Филя Гапончик дергает за ногу соседа, кивает на магазин. Тот нехотя встает — сначала на четвереньки, потом выпрямляется — и, заплетаясь ногами, бредет к магазину. Все молчат, и бригадир молча ждет, не слезая с седла, молча выпивает четвертинку из горлышка, кидает посуду в крапиву и едет в Шоболовку. Мужики молча смотрят вслед.
Но тут под берегом скрипят уключины, гремит замок. Из-под яра появляется моя облупленная физиономия на тонкой коричневой шее. Одна штанина засучена выше костлявого колена, другая опущена и темнеет — вымокла. Через руку корзина с рыбой.
Мужики лениво повернули головы, с минуту-другую смотрят на меня, словно вспоминая — чей это... Потом на их лицах появлялось подобие улыбки. Начинает Филя Гапончик — по праву начальника:
— Минька! А Минька!
— Что тебе?
— Минька, что твоя мать третьеводни делала?
— А я почем знаю...
— Ну, а ты что третьеводни делал?
— Корчажки ставил.
— А домой вечером приплыл?
— Вечером.
— Ну, когда приплыл, что мать делала?
— Ничего. Что она могла делать...
Отчим как появился у нас, начал строить новый дом. Но строить не спешил. За год едва под крышу подвел. А потом и совсем забыл о нем. С тех пор я озлился на отчима, хотя он относился ко мне неплохо. Ночью, просыпаясь с приходом матери, ворчу, имея в виду отчима:
— Пришел на готовое да еще и помогать не хочет.
Мать устало уговаривает:
— Так они ж, мужики, все такие. Ты у меня и без него с хозяйством справляешься.
— А на что он нам тогда сдался?
Мать вздыхает.
— Если бы его не было, может, и отец вернулся бы...
Эти слова я подслушал у старух, всегда жалевших меня, когда я на заре с багром и веслом уходил к лодке корчажки смотреть или ловить дрова.
— Нет, отец все равно не вернулся бы, — куда-то в темноту говорит мать, раздеваясь у открытого окна в неосвещенной комнате. — Ты об этом и не думай, Минька, Вот разве что за тобой вернется, когда вырастешь.
— Сильно он мне тогда нужен будет. Я и на порог-то его не пущу.
Мать ложится на кровать в другой комнате, скрипя пружинами.
— Может, ты только сейчас так говоришь, а вырастешь... Ну ладно, спи. Нам рано с тобой вставать. Завтра, смотри, лук прополи и морковку. А то росту нет, совсем трава забивает.
— Выполю.
Я знал, что и лук и морковку выполю, чего бы это мне ни стоило. Осталось уж не так много. И кончится наконец эта неприятная работа. Самая неприятная из всех, что на мою долю доводится летом.
Огород большой, в полгектара. Земли много, правлению не жалко. Да и мать в колхозе на виду у начальства.
Но возиться с огородом приходится мне, хотя больше по душе мне рыбачить и дрова ловить по уловам. Вот я и надумал делить каждый день надвое: с утра, пока не надоест, в огороде копаюсь, а потом сажусь в лодку и плыву либо дрова собирать, либо с острогой налимов искать на протоке. И то и другое для меня — и отдых, и развлечение, потому что при этом легко думать. А думаю я много. Думаю о взрослых. Не нравится мне, как они живут. Вот мать моя — умная вроде бы, а с отцом не ужилась. Зачем тогда замуж шла за него? Нет, когда я вырасту, так жить не буду.
Кроме рыбалки любил я еще веники вязать из полыни. Много их на зиму надо. Как только срочные работы на огороде кончаются, я отправляюсь на увал. Он начинается сразу за деревней и, поднимаясь все выше и выше, выше крыш и даже тополей, уходит на обе стороны от деревни.
С увала мне видно, как кто-то пробирается через дедов огород. Присматриваюсь: дед. Он в длинном старом полушубке с поднятым овчинным воротником, в бараньей шапке. Перешагивает через низкую изгородь, вскидывая голову, поглядывает в мою сторону. Значит, дед увидел меня и решил прийти поболтать. Сегодня я ночевал на острове и потому вечером к деду не ходил.
Собрал веники, связал ремнем, повесил через плечо... А дед уже подошел к увалу, машет рукой, кричит слабо:
— Айда вниз!
— Сам иду, не видишь, что ли? — говорю. Но говорю
так, чтобы дед не слышал.
Спустился вниз по тропинке. Мы идем через выгон, через огород... В ограде я сбросил веники и сел на чурбан, а дед тем временем улегся на верстаке под навесом, накрылся полушубком до подбородка. Из-под полы торчат растоптанные, аккуратно подшитые белые валенки — чесанки.
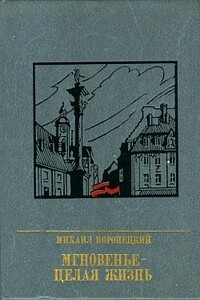
Феликс Кон… Сегодня читатель о нем знает мало. А когда-то имя этого человека было символом необычайной стойкости, большевистской выдержки и беспредельной верности революционному долгу. Оно служило примером для тысяч и тысяч революционных борцов.Через долгие годы нерчинской каторги и ссылки, черев баррикады 1905 года Феликс Кон прошел сложный путь от увлечения идеями народовольцев до марксизма, приведший его в ряды большевистской партии. Повесть написана Михаилом Воронецким, автором более двадцати книг стихов и прозы, выходивших в различных издательствах страны.

Сборник миниатюр «Некто Лукас» («Un tal Lucas») первым изданием вышел в Мадриде в 1979 году. Книга «Некто Лукас» является своеобразным продолжением «Историй хронопов и фамов», появившихся на свет в 1962 году. Ироничность, смеховая стихия, наивно-детский взгляд на мир, игра словами и ситуациями, краткость изложения, притчевая структура — характерные приметы обоих сборников. Как и в «Историях...», в этой книге — обилие кортасаровских неологизмов. В испаноязычных странах Лукас — фамилия самая обычная, «рядовая» (нечто вроде нашего: «Иванов, Петров, Сидоров»); кроме того — это испанская форма имени «Лука» (несомненно, напоминание о евангелисте Луке). По кортасаровской классификации, Лукас, безусловно, — самый что ни на есть настоящий хроноп.
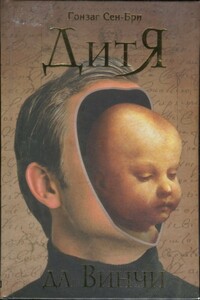
Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.
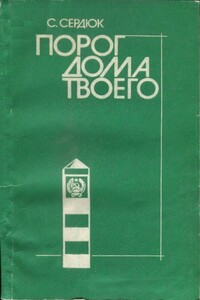
Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.