Новое недовольство мемориальной культурой - [14]
В более позднем эссе Герман Люббе более точно и подробно обосновал свой прагматичный тезис о преобразующей силе умолчания. Он вовсе не оправдывал тех, кто, прикрывшись фальшивой идентичностью, пытался уйти от ответственности. Концепция умолчания подразумевала не умалчиваемое, а общеизвестное. Умолчание покоилось на сделке равных с равными. Сделка состояла в «негласной договоренности, что антифашисты не воспользуются известным им компроматом, а бывшие нацисты будут сдержаны в своих общественных притязаниях»[44]. Люббе видел продуктивную силу умолчания, связанного с недвусмысленной поддержкой нового правового государства, в том, что умолчание давало людям способность открыться для будущего. Именно этой ориентацией на будущее характеризовалось послевоенное восстановление Германии, ибо «будущее» тогда отождествлялось с общественной интеграцией посредством новых шансов, с реабилитацией и самоочищением, а «прошлое» ассоциировалось с полной противоположностью: расколом общества из-за взаимных обвинений, фиксированностью на отброшенных идентичностях.
Подобная прагматичная внутренняя установка соответствовала гибкому приспособлению к новой общественно-политической системе без необходимости публично демонстрировать моральное исправление. Всеобщее умолчание позволило военному поколению, по словам Люббе, «избежать назойливой назидательности со стороны тех, кто претендовал на роль защитников справедливости»[45]. Латентность прошлого предотвращала общественные конфликты. Внутреннее содержание биографии оставалось делом приватным. По мнению Люббе, именно эта латентность прошлого, деликатное умолчание по отношению к «общеизвестному» содержанию живой памяти миллионов немцев, способствовало быстрой интеграции западногерманского общества и ускоренному экономическому подъему. С прагматической точки зрения – и здесь Люббе совершенно прав – подобная практика была безальтернативной. Миллионы молодых членов партии, занимавших низшие посты в нацистском государстве, реально не могли быть подвергнуты поголовному юридическому преследованию и осуждению. Воспользовавшись возможностью инвестировать собственные силы в поддержку нового политического режима, они как бы заслужили самореабилитацию. Люббе сам принадлежит к поколению основателей и созидателей ФРГ, снискавших к себе уважение за это историческое свершение.
Да, климат взаимных подозрений, разоблачений и доносов крайне затруднил бы преобразование «народной общности» в гражданское общество. Однако нельзя не учитывать, что и замалчивание прошлого обошлось дорого: реэмигрантов (за редким исключением) встретила атмосфера политической враждебности; люди, подвергавшиеся репрессиям со стороны нацистского режима, долгое время не получали признания. Ведь в стране находились не только нацисты мелкого калибра (вроде Гельмута Шельски) и не только пользовавшиеся всеобщим уважением евреи, которым удалось выжить (вроде Гельмута Плесснера), но и весьма непопулярные в обществе раздосадованные реэмигранты, которые самоустранились от участия в общественной жизни, а также закоренелые нацисты, сохранившие, а порой даже расширившие свое влияние и власть; к тому же поражение сплотило их против бывших политических противников. На микросоциальном уровне процесс развивался не столь гармонично, как это выглядит в описании Германа Люббе. Изменение официально признаваемой системы ценностей поначалу не возымело непосредственных последствий для прежних иерархических властных структур в повседневной жизни ФРГ, что вызывало отчаяние и социальную фрустрацию многих жертв нацистского режима. Наиболее ярким примером служит Жан Амери, который использовал слово «предубеждение» в положительном смысле, протестуя против замалчивания прошлого. Можно отдавать должное функциональной адаптации, расчетливости и прагматизму, но не следует игнорировать то обстоятельство, что в послевоенные годы под завесой молчания продолжала твориться несправедливость, усугублявшая душевные раны.
Если ментальная и моральная трансформация послевоенного западногерманского общества происходила неприметно и медленно, то второе поколение западных немцев совершило эту трансформацию резко и публично. Конфликт поколений обнаружил, с одной стороны, пределы прагматической стратегии умолчания, а с другой – достоинства и слабости морального расчета с прошлым. Умолчание являлось формой добровольного самоограничения, которое, возможно, пошло на пользу обществу, но не родителям и их детям. Терапевтическое воздействие на общество в целом обернулось нарушением межпоколенческого диалога, нанесшим тяжкий вред конкретным людям и внутрисемейным отношениям. Длительная социализация в определенных общественных условиях, привитые культурные ценности отразились на первом поколении таким образом, что оно также реагировало на встающие перед ним проблемы их замалчиванием. Следующее поколение выросло в иной культуре, где разговор ставился выше молчания. Вопрошание и разоблачение сделались главными проектами «поколения 68-го года», которое понаторело в соответствующей риторике. В долгосрочной перспективе трагизм этой исторической ситуации состоял в том, что межпоколенческий конфликт не способствовал общению, он лишь усугубил замалчивание. Дальнейшая интеграция общества сопровождалась распадом семей. Вместо вопросов звучали громкие обвинения, диалог распался на упреки и самооправдания. Диалог оказался невозможен уже потому, что в столкновении поколений обращение к прошлому сделалось политическим оружием

В своей новой книге известный немецкий историк, исследователь исторической памяти и мемориальной культуры Алейда Ассман ставит вопрос о распаде прошлого, настоящего и будущего и необходимости построения новой взаимосвязи между ними. Автор показывает, каким образом прошлое стало ключевым феноменом, характеризующим западное общество, и почему сегодня оказалось подорванным доверие к будущему. Собранные автором свидетельства из различных исторических эпох и областей культуры позволяют реконструировать время как сложный культурный феномен, требующий глубокого и всестороннего осмысления, выявить симптоматику кризиса модерна и спрогнозировать необходимые изменения в нашем отношении к будущему.

Наследие главных катастроф XX века заставляет европейские страны снова и снова пересматривать свое отношение к истории, в процессе таких ревизий решается судьба не только прошлого, но и будущего. Главный вопрос, который перед нами стоит, звучит так: «Есть ли альтернатива национальной гордости, опирающейся на чеканные образы врага и забывающей о жертвах собственной истории?» В двух новых книгах, объединенных в этом издании под одной обложкой, немецкий историк и специалист по культурной памяти Алейда Ассман тоже задается этим вопросом.

Немецкий историк и культуролог Алейда Ассман – ведущая исследовательница политики памяти Европы второй половины XX века. Книга «Забвение истории – одержимость историей» представляет собой своеобразную трилогию, посвященную мемориальной культуре позднего модерна. В «Формах забвения» Ассман описывает взаимосвязь между памятью и амнезией в социальных, политических и культурных контекстах. Во второй части трилогии («1998 – между историей и памятью») автор прослеживает, как Германия от забвения национальной истории переходит к одержимости историей, сконцентрированной вокруг национал-социализма.

В книге известного немецкого исследователя исторической памяти Алейды Ассман предпринята впечатляющая попытка обобщения теоретических дебатов о том, как складываются социальные представления о прошлом, что стоит за человеческой способностью помнить и предавать забвению, благодаря чему индивидуальное воспоминание есть не только непосредственное свидетельство о прошлом, но и симптом, отражающий культурный контекст самого вспоминающего. Материалом, который позволяет прочертить постоянно меняющиеся траектории этих теоретических дебатов, является трагическая история XX века.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
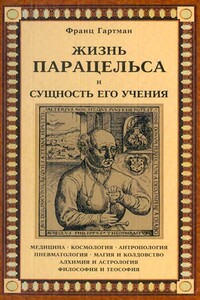
Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.