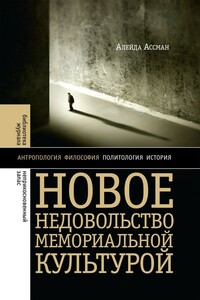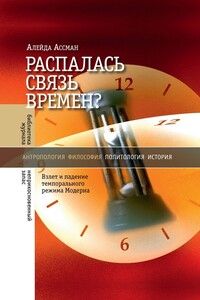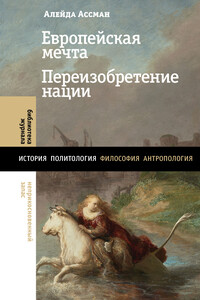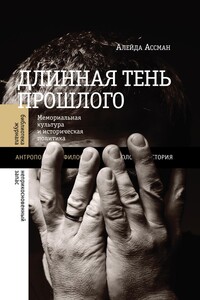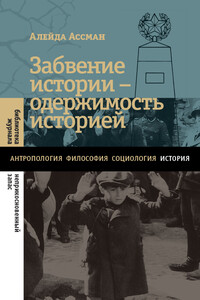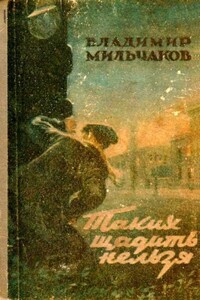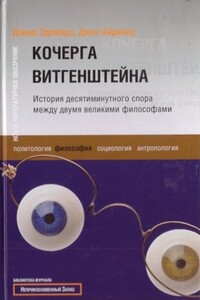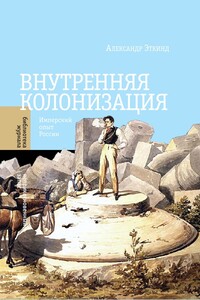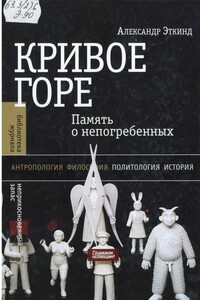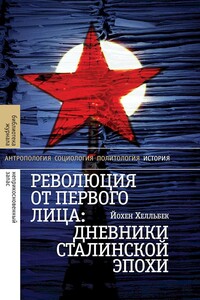В 1930 году Зигмунд Фрейд опубликовал в Вене работу под названием «Недовольство культурой», где рассматривал культуру как коллективный проект, ограничивающий желания Эго ради общественного блага. По мысли Фрейда, технический прогресс, движущий культуру модерна, не приводит (на фоне растущей власти над окружающим миром) ни к субъективному ощущению счастья, ни к полному удовлетворению. Причину отсутствия счастья и внутреннего удовлетворения Фрейд видел не в обостряющемся сознании растущих опасностей и рисков, которые несет научно-техническая цивилизация, а в том, что экспансия культуры влечет за собой и экспансию супер-Эго, все больше подавляющего собой Эго. Культура, по мнению Фрейда, сталкивает индивидуума с непосильными вызовами и непомерными этическими требованиями. Предъявляемые человеку обществом «культурные идеалы» имеют слишком высокую цену, – а именно искусственно поддерживаемое сознание вины, на основе которого формируется индивидуальная совесть, поэтому «вследствие его усиления прогресс культуры оплачивается ущемлением счастья»[1].
Остановимся на этом базовом аргументе, ибо доводы Фрейда затрагивают самый нерв послевоенной немецкой истории: платой за культурный прогресс служит растущее чувство вины. Реинтеграция Германии в круг цивилизованных стран произошла на основе негативной памяти, которая включила собственную преступную предысторию в коллективное представление нации о себе и ритуально поддерживает чувство вины посредством ее общественного признания. Но вина, о которой идет речь, уже не является фрейдовским эдиповым конструктом, предполагающим, что сговорившиеся между собой братья убивают отца, главу архаичного племени; здесь имеется в виду уничтожение европейских евреев и других беззащитных национальных меньшинств, которое задумывалось, планировалось и осуществлялось немцами вместе с коллаборационистами из других стран.
Если фрейдовская идея об убийстве праотца была научным мифом, то геноцид евреев – это недавнее преступление против человечества, документально подтвержденное многочисленными историческими источниками. Бремя подобной вины значительно превосходит все, что можно себе представить, эмоционально выдержать и искупить; это бремя ложится тяжким грузом на следующие поколения, его приходится нести с собой в будущее.
«Мемориальная культура», которой посвящена эта книга, является ответом на данное историческое событие. С 1990-х годов понятие «мемориальная культура» утвердилось в научных дискурсах, в выступлениях политиков, в публикациях СМИ и даже в повседневной разговорной речи. Мы регулярно встречаемся с ним, будь то в воскресной проповеди или в передовице еженедельника «Шпигель», поэтому не отдаем себе отчет, насколько новым является это словосочетание – «мемориальная культура».
В данном случае, как я постараюсь показать, новым является не только словосочетание, но и обозначаемое им понятие. Однако почему ответ на тягчайшее преступление XX века появился так поздно? Почему о мемориальной культуре заговорили спустя годы после окончания Второй мировой войны? Почему молчание столь долго считалось наиболее подходящим решением? Новое понятие соответствует новому, кардинально изменившемуся соотношению между настоящим, прошлым и будущим. Мы вправе также констатировать глубокую смену ценностей, начавшуюся в 1980-е годы. Речь идет о сдвигах в очевидностях, которые не ставятся под сомнение и не подлежат обсуждению, ибо они являются частью наших устойчивых представлений о мире. Подобные умалчиваемые сдвиги нормативных координат экологи называют «Shifting Baselines». Обычно люди не сознают происходящие в окружающем мире перемены социального или физического характера, поскольку «считают “естественным” то состояние окружающего мира, которое совпадает по времени с их биографией и жизненным опытом»[2].
Когда в 1989 году пала Берлинская стена, сокрушив и весь советский восточный блок, параллельно разрушилось еще нечто очень важное, а именно вера в модернизацию с ее надеждами на будущее и забвением прошлого.
Становление мемориальной культуры и падение веры в модернизацию непосредственно связаны друг с другом; они знаменуют собой постепенное осознание Западом совершающейся эволюции в восприятии времени[3]. Новая мемориальная культура радикально изменила традиционные формы коммеморации. Впервые за всю историю они относятся теперь не только к понесенным собственной страной жертвам войны, скорбно оплакиваемым или чествуемым как герои, но и к жертвам собственных преступлений, ответственность за которые ложится на государство и на последующие поколения. Подобная самокритичная коммеморация является совершенно новым историческим явлением.
Мемориальная культура формировалась в Германии на протяжении трех десятилетий с большой энергией, немалыми финансовыми затратами и значительными усилиями гражданского общества; за это время она обросла огромным количеством музеев, различных проектов, мероприятий и программ, став для всех зримой и общедоступной. Средства массовой информации обеспечили мемориальной культуре естественное вхождение в повседневный быт; она присутствует теперь непосредственно у порога дома, например в виде «камня преткновения»; она запечатлена в выдающихся памятниках и монументах общенациональной значимости. После начальной фазы интенсивного роста мемориальная культура проходит ныне своего рода экзамен на аттестат зрелости. Какую роль займут теперь воспоминания в нашем обществе? Следует ли продолжить развитие мемориальной культуры, и если да, то как? Куда ведет избранный путь и кто пойдет этим путем? Вот несколько фундаментальных вопросов актуальной повестки дня.