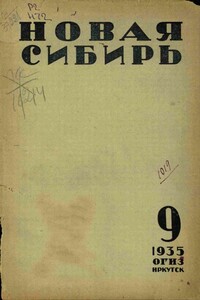Никшина оплошность - [4]
9.
Подпоручик Власов шарил в лесу. Агафонов получил сведения, что где-то поблизости собираются в отряд пьяновские, из полусожженного села Пьянова, крестьяне. Подпоручику надлежало разыскать этот отряд и, если он не особенно велик, разбить его. А в случае, если он окажется сильнее Власовского отряда, обложить его и гнать к есаулу вестовых за подмогой.
Подпоручик пошарил усердно по еланям, по боркам. Ничего подозрительного не встретилось. Только однажды застава наткнулась на пьяного, нелепого мужичёнка, который с пьяных глаз принял отряд за партизан, и от которого никаких сведений, ценных для подпоручика Власова, как доложил старший, добиться нельзя было.
Потом полурота Власова растянулась в лесу, недалеко от того места, где встретился мужичёнка пьяный, на отдых.
Солдаты составили в козлы ружья, собрались возле них в кучки, прилегли, закурили. Было тихо в лесу. Сосны млели в зное и пахли терпко и пряно. Разогретая палая хвоя мягко шуршала под ногами. Гудели протяжно комары. Они вились над людьми, жалили, беспокоили. Густые дымокуры отгоняли их плохо.
Солдаты лениво переговаривались, врали друг другу, хвастались, незлобливо переругивались. Власов в тени сосен клевал носом и досадливо отмахивался от комаров. Взводный услужливо разжигал ему дымокур, накидывая на красный огонь свежую траву и гнилушки. Грязно-молочный дым полз тяжело к верхушкам дерев. Ловя минуты вялого бодрствования подпоручика, взводный осторожно поучал:
— Нам бы, ваше благородье, рази в эту сторону подаваться?.. Здесь никаких партизанов. Здесь спокойно. Вот ежели за Пьянову через хребты, тамока, может быть, и достигли кого... Неправильное направление дадено командиром...
Власов таращил сонно глаза и, стараясь быть внушительным, отвечал:
— Ну, ну... Начальство, брат, дело знает... Не глупей тебя...
— Да я знаю, что не глупей, а только никакого резону нет нам здесь шарить. Только комаров кормим...
И тут быстро сунулся, уминая траву, топча кустарники, солдат сторожевой: нагнулся к начальству, красное, возбужденно-веселое лицо показал и:
— Вашблагородье! С долинки подбирается к нам кто-то!..
Вскочили, сорвали сон с себя, перешагнули через дымокур. Сразу движенье. Разобрали солдаты ружья из козел. Приказанье. Рассыпались, залегли, притаились. Ждут.
Хлеснуло по ветвям, шарахнуло, запело. Начался обстрел.
10.
Ребята, не заходя в улицу, остановились, посовещались меж собой и сказали Никше:
— Иди-ка ты, дядя, от нас!.. Да лучше всего схоронись где-нибудь. Неровен час, вернутся белые, нагрянут в Никольщину и спустят с тебя шкуру, да не одну.
Удивился Никша:
— Пошто же это хорониться?.. — Но ребята засмеяли его, стыдно ему стало, он и ушел от них.
А они забрали солдата пленного, повернули к поскотине и пошли какой-то своей дорогою.
Подумал Никша: когда еще белые вернутся, можно успеть дома побывать, у соседей потолкаться, — может, и самогонкой где угостят.
Побывал Никша у себя: неприглядно, пусто у него в избе. Кто-то с поветей жерди утащил, четыре жердины хорошие. Ругнулся Никша, разволновался. Обошел соседей, рассказал бабам про мытарства свои. Всюду застал беспокойство, тревогу; везде не до Никши. Горько ему стало — пошел он, как к последнему пристанищу, к Макарихе.
У Макарихи изба на самом краю деревни, так же, как у Никши. Макариха тоже, как и Никша, бобылкой жила. И, как и он же, лекарила, только по бабьей части. Поэтому, может быть, и дружба была промеж них стариковская. Дружба, над которой в деревне посмеивались изгально:
— Вот бы эту пару под венец!.. Наплодили бы они вшей!..
Застал Никша Макариху за суетней какой-то бабьей. Взглянула старуха на него, удивилась:
— Чего это ты, Никон Палыч, ни тверез, ни пьян? Откуда?
Сморщился Никша, разжалобился.
К другу своему, можно сказать, единственному пришел, да и тут смешки да хаханьки.
— Ты бы, Савельевна, с мое перетерпела, так тоже и протрезвилась-бы и опьянела! Да... Чем десны мыть, ты бы угостила. Я с зорьки ни пимши, ни емши. А тут еще мытарств сколько....
Добыла Макариха картошек, хлеба нарушила, насыпала соли горку на стол:
— Кушай...
— Эх, кабы чего-нибудь горяченького! А? — заюлил Никша.
— Нету, Никон... Утресь у Парамоновских остатки допили. Ишь, кумуха какая доспела — боятся все начальства военного... Как Пьянову пожгли, ну и наши трусят.
— Жалко, — вздохнул Никша.
Круто соля хлеб с картошкой, Никша рассказал про свои лесные встречи. И как поведал он про то, что рассказал белым о партизанах, хлопнула Макариха себя по бедрам, закачала головой, застыдила:
— Ах ты, неиздашный какой!.. Что же ты это наделал?! Теперь окружат их, бедненьких, ироды, перестреляют!.. Дурак ты, совсем дурак!..
— Да это не я... — оправдывался Никша. — Это самогон во мне действовал...
— Самого-он! — передразнила Макариха. — Ну, а потом што?..
Рассказал Никша, что было потом.
— Вот теперь ребята наказали, — кончил он, — чтоб, значит, убираться мне, схорониться мне...
— Зачем же? — дивилась Макариха: — Будут тебя партизаны наказывать за подлость твою, или как?..
— Нет... Не от партизан убираться, от белых. Ты, говорят, Никон, уходи из Никольщины, а то белые шкуру с тебя спустят.

В повести «Сладкая полынь» рассказывается о трагической судьбе молодой партизанки Ксении, которая после окончания Гражданской войны вернулась в родную деревню, но не смогла найти себе место в новой жизни...

Роман Гольдберга посвящен жизни сибирской деревни в период обострения классовой борьбы, после проведения раскулачивания и коллективизации.Журнал «Сибирские огни», №1, 1934 г.

Общая тема цикла повестей и рассказов Исаака Гольдберга «Путь, не отмеченный на карте» — разложение и гибель колчаковщины.В рассказе, давшем название циклу, речь идет о судьбе одного из осколков разбитой белой армии. Небольшой офицерский отряд уходит от наступающих красных в глубь сибирской тайги...

Одним из интереснейших прозаиков в литературе Сибири первой половины XX века был Исаак Григорьевич Годьдберг (1884 — 1939).Ис. Гольдберг родился в Иркутске, в семье кузнеца. Будущему писателю пришлось рано начать трудовую жизнь. Удалось, правда, закончить городское училище, но поступить, как мечталось, в Петербургский университет не пришлось: девятнадцатилетнего юношу арестовали за принадлежность к группе «Братство», издававшей нелегальный журнал. Ис. Гольдберг с головой окунается в политические битвы: он вступает в партию эссеров, активно участвует в революционных событиях 1905 года в Иркутске.

Исаак Григорьевич Гольдберг (1884-1939) до революции был активным членом партии эсеров и неоднократно арестовывался за революционную деятельность. Тюремные впечатления писателя легли в основу его цикла «Блатные рассказы».

Роман «Доктор Сергеев» рассказывает о молодом хирурге Константине Сергееве, и о нелегкой работе медиков в медсанбатах и госпиталях во время войны.
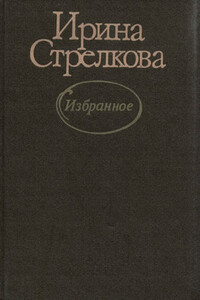
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».

Из предисловия:Владимир Тендряков — автор книг, широко известных советским читателям: «Падение Ивана Чупрова», «Среди лесов», «Ненастье», «Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд» и др.…Вошедшие в сборник рассказы Вл. Тендрякова «Костры на снегу» посвящены фронтовым будням.

Эта книга написана о людях, о современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях. Это люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края».Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал автору: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.