Николай Пржевальский. Его жизнь и путешествия - [3]
С другой стороны, грубость и низменность окружающего общества не могли не развивать в нем известного презрения к людям. Он приучался к мысли, что это – грубое и дикое стадо, для которого необходимы кулак и палка.
“Я невольно задавал себе вопрос: где же нравственное совершенство человека, где бескорыстие и благородство его поступков, где те высокие идеалы, перед которыми я привык благоговеть с детства? И не мог дать себе удовлетворительного ответа на эти вопросы, и каждый месяц, можно сказать, каждый день дальнейшей жизни убеждал меня в противном, а пять лет, проведенные на службе, совершенно переменили прежние мои взгляды на жизнь и человека” (Воспоминания охотника).
Ему приходилось так горько, что по временам он уходил в лес и плакал.
Поддержкой в этом тяжелом положении являлись, кроме любви к природе, переписка с матерью и случайные побывки в родном доме. Матери он писал очень часто, сообщая ей о всех мелочах своей военной жизни. То, что было хорошего в его спартанском воспитании – нежная любовь матери, сознание долга, твердость в исполнении обязанностей, которые она старалась привить детям,– оказали здесь благотворное влияние.
Материальное положение Пржевальского было незавидным – особенно в первое время службы. Собственных денег имелось мало, а содержали юнкеров плохо.
Но материальные невзгоды еще не так угнетали его, как нравственная неудовлетворенность. Долго он терпел ее, утешаясь охотой и чтением – преимущественно исторических книг и путешествий,– но наконец решился выйти из своего безотрадного положения.
“Прослужив пять лет в армии, протаскавшись в караулы, по всевозможным гауптвахтам, на стрельбу со взводом, я наконец ясно осознал необходимость изменить подобный образ жизни и избрать более обширное поприще деятельности, где бы можно было тратить труд и время для разумной цели. Однако эти пять лет не пропали для меня даром. Не говоря уже о том, что они изменили мой возраст с 17 на 22 года и что в продолжение этого периода в моих понятиях и взглядах на жизнь произошла огромная перемена,– я хорошо понял и изучил то общество, в котором находился”.
Пржевальский просил начальство о переводе на Амур, но вместо ответа был посажен на трое суток под арест. Тогда он решил поступить в Николаевскую академию Генерального штаба. Для этого нужно было сдать экзамен по военным наукам, и Пржевальский ревностно принялся за книги, просиживая над ними часов по шестнадцать в сутки, а для отдыха отправляясь на охоту. Великолепная память помогла ему справиться с предметами, о которых он раньше не имел понятия. Только математика да уставы внушали ему некоторое опасение. Тем не менее, просидев около года над книгами, он отправился в Петербург попытать счастья.
Это был первый шаг вперед от жалкого прозябания в армейском полку к славной и плодотворной карьере знаменитого путешественника. Конечно, до нее было еще далеко, но все же поступление в академию явилось переломом в жизни Пржевальского.
В Петербург он поехал налегке, заняв у одной знакомой 170 рублей с обязательством возвратить 270. К его великому ужасу, на экзамен в академию явилось 180 человек: он уже решил, что провалится, но несмотря на сильную конкуренцию был принят одним из первых – большинство явившихся оказались плохо подготовленными.
Живя в крайне стесненном материальном положении, нередко впроголодь, он сторонился товарищей, не примыкал ни к какому кружку и распределял время между посещением лекций и чтением книг по истории и естествознанию.
Военными науками он вовсе не интересовался, но на экзаменах вывозила его счастливая память. Прочитав книгу, он мог цитировать слово в слово целые страницы, и притом через несколько лет после того, как книга была прочитана. Однажды, впрочем, ему чуть не пришлось распрощаться с академией. Посланный летом на съемку в Боровской уезд, он занимался все время охотой; съемка оказалась плохой, и только блестящие ответы на устных экзаменах спасли его от исключения.
В это же время началась его литературная деятельность. Нуждаясь в деньгах, он написал статейку “Воспоминания охотника”, которая была напечатана в “Журнале охоты и коннозаводства”. Денег за нее он не получил, но был несказанно рад, что статья появилась в печати.
Вторым литературным детищем его было “Военно-статическое обозрение Приамурского края”. Статья эта, компилятивная и написанная на заданную тему, отличалась, однако, такими достоинствами, таким добросовестным и основательным изучением источников, что обратила на себя внимание Географического общества, которое избрало Пржевальского своим действительным членом.
В 1863 году, в начале польского восстания, офицерам старшего курса академии было объявлено, что тот, кто пожелает отправиться в Польшу, будет выпущен на льготных основаниях. В числе желающих оказался и Пржевальский. В июле 1863 года он был произведен в поручики и назначен полковым адъютантом в свой прежний Полоцкий полк.
В Польше он принимал участие в усмирении мятежа, но, кажется, больше интересовался охотой и книгами. Охотничья страсть едва не сыграла с ним злую шутку: увлекшись преследованием какой-то дичи, он попал однажды в шайку повстанцев и еле успел ускакать от них.
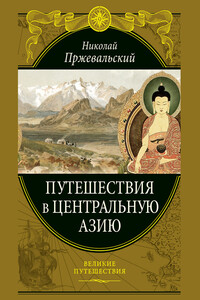
Николай Михайлович Пржевальский (1839—1888) сказал однажды: «Жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать».Азартный охотник – он страстно любил природу. Военный – неутомимо трудился на благо мирной науки. Поместный барин, генерал-майор – умер на краю ойкумены, на берегу озера Иссык-Куль.Знаменитый русский путешественник исходил пешком и на верблюдах всю Центральную Азию – от русского Дальнего Востока, через Ургу (Улан-Батор), Бей-цзин (Пекин) и пустыню Гоби – до окрестностей священной столицы ламаизма Лхасы.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
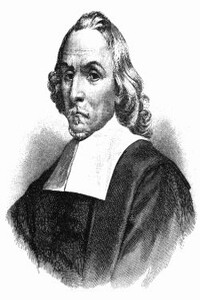
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
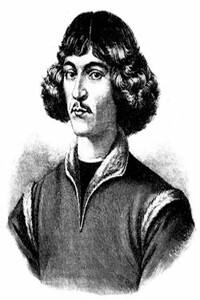
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.
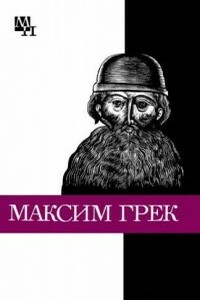
Книга посвящена одному из видных деятелей отечественной и европейской культуры XVI в… оставившему обширное письменное наследие, мало изученное в философском отношении. На примере философских представлений Максима Грека автор знакомит со своеобразием древнерусского философского знания в целом.В приложении даны отрывки из сочинении Максима Грека.

Герой книги — выдающийся полярник Руал Амундсен. Он единственный побывал на обоих полюсах Земли и совершил кругосветное плавание в водах Ледовитого океана. Прошел Северным морским путем вдоль берегов Евразии и первым одолел Северо-Западный проход у побережья Северной Америки. Блестящий организатор, на пути к Южному полюсу безошибочно выбрал собачьи упряжки и уложился в сжатые сроки, пока трудности не ослабили участников похода. Фигура исторического масштаба, опыт которого используют полярники до сего дня.Однако на вершине жизни, достигнув поставленных целей, герой ощутил непонимание и испытал одиночество.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.