Ницше или Как становятся Богом (Две вариации на одну судьбу) - [14]
, — и уже почти машинально модулируя в тональность “паралича” и “комбинированного психоза” —среда индусов я был Буддой, в Греции — Дионисом; Александр и Цезарь — мои инкарнации, также и поэт Шекспира — лорд Бэкон; я был напоследок ещё и Вольтером и Наполеоном, возможно, и Рихардом Вагнером… Я к тому же висел на кресте; я Прадо; я также отец Прадо; рискну сказать, что я также Лессепс… и Шамбиж; я каждое имя в истории…[27]Это — настоящее заговаривание лабиринта, исступлённый шедевр чисто эгографического экзорцизма, как бы бессознательно испещряющего стены лабиринта (уже усыпальницы) магическими речениями “Книги Мёртвых”, — последний подвох самосознания, отданного на заклание темпу: “Мой девиз: у меня нет времени для себя — вперёд!”
Тут только и забрезжил выход из лабиринта, и выходом этим оказалась…Голгофа.“Другу Георгу! После того как ты открыл меня, невелико было искусство найти меня: трудность теперь заключается в том, чтобы потерять меня. Подпись: Распятый (Der Gekreuzigte)” (Письмо к Г. Брандесу от 4 января 1889 г., Br., 8, 573). Или ещё: “Моему маэстро Пьетро. Спой мне новую песнь: мир просветлён, и небеса ликуют. Подпись: Распятый” (Письмо к П. Гасту от 4 января 1889 г., Br., 8, 575). Не будем соблазняться: Распятый могло бы означать здесь — распятый разбойник(“Прадо”): в сущности, прикинувшийся разбойником музыкант, посягнувший решительно на всё абсолютное, кроме собственного абсолютного слуха, и смогший, вопреки себе, расслышать Голос, к которому остались благополучно глухи века традиционной морали и профессорской философии.
4. Посмертные судьбы
“В неописуемой странности и рискованности моих мыслей лежит причина того, что лишь по истечении долгого срока — и наверняка не ранее 1901 года — мысли эти начнут доходить вообще до ушей” (Письмо к М. фон Мейзенбуг от 12 мая 1887 г., Br., 8, 70). Удивительно, что этому одинокому “охотнику до загадок”, испившему до дна чашу непризнанности и вынужденному, несмотря на крайнюю бедственность, печатать за свой счёт жалкие тиражи собственных сочинений, так и не пришлось хоть однажды усомниться в aere perennius каждой написанной им строки.
Пророчество оказалось необыкновенно точным: столетие открывалось оглушительным взрывом ницшемании, словно бы те на последнем дыхании выкрикнутые слова: “я не человек, я динамит” — были не эйфорическим саморазоблачением с-ума-сходящего, а самой действительностью, к тому же весьма скромно засвидетельствованной, — какой ещё динамит, когда говорить следовало бы о несуществующем ядерном арсенале! Злая насмешка судьбы: самому аристократичному из мыслителей, индивидуалисту, поддерживающему свою жизнь строжайшей диетой одиночества и презирающему даже театр, в котором “господствует сосед” (KSA 6, 420), довелось посмертно побить наиболее внушительные рекорды по части массового эффекта и стать едва ли не самым всеядным властителем дум начинающегося столетия.
Стоит ли и говорить о том, каким невыносимым диссонансом въелась эта всеядность в весь строй ницшевского менталитета; извращение и порча смыслов определялись здесь не столько качеством разночтения, сколько чисто количественным фактором его, — генезис европейского (и после уже и мирового) ницшеанства выглядит скорее всего прискорбной шумихой вокруг некоего аукциона, торгующего духовными “мощами” покойного философа и при активном участии самой разношёрстной публики: от университетских профессоров до бойких газетчиков, от новаторов стиля и мировоззрения до начитанных сплетников и сплетниц, от длинноволосой богемы кружков и журфиксов до горьковских босяков. “Стань тем, кто ты есть” — какой чудовищной пародией обернулось это тайное взыскание одинокого скитальца в ближайшей инсценировке его посмертных судеб, разыгрывающих как раз обратную картину, словно бы именно ему, гению всяческих провокаций и почётному гражданину Лабиринта, суждено было накликать на себя эту безвкусную и во всех смыслах жалкую провокацию распоясавшегося ницшеанства и многолично стать тем именно, чем он никогда не был, да и не мог ни при каких обстоятельствах быть.
В таком горько карикатурном исполнении сбывался подзаголовок, поставленный им к книге о Заратустре: “Книга для всех и ни для кого”, — сбывалась, точнее сказать, одна лишь первая часть его — “для всех” — при кричащем и разрушительном отсутствии “ни для кого”, только и способном уравновесить и осмыслить невыносимую эмпирику буквально понятых “всех”. “Книга для всех” за вычетом “никого” — трудно, пожалуй, сыскать более ёмкую и точную формулу, смогшую бы вместить весь печальной памяти феномен ницшеанства, или Сочинений Ницше за вычетом самого Ницше, и это значит: слов за вычетом музыки, музыки за вычетом страсти, страсти за вычетом страждущего, короче, только слов, мёртвых слов, которым он подобрал непереводимый, гольбейновской силы гравюрный штрих: “Ein klapperdures Kling-Kling-Kling” — что-то вроде бряцающего костьми скелета.
Скелет оказался на редкость популярным и общедоступным; можно было бы разложить его в однозначном ряде аксиом, одинаково звучащих для уха какого-нибудь изнеженного декадента и какого-нибудь бравого унтер-офицера: сильные должны повелевать, слабые — подчиняться, и ещё: жизнь есть воля к власти, и ещё: мораль есть мораль слабых, мстящих таким образом жизни полнейшей дискредитацией её естественных прав, или еще: нет ничего истинного, всё позволено. Ницше, подменённый “

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…
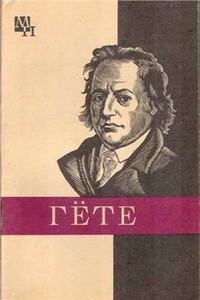
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Эта книга – увлекательный рассказ о насыщенной, интересной жизни незаурядного человека в сложные времена застоя, катастрофы и возрождения российского государства, о его участии в исторических событиях, в культурной жизни страны, о встречах с известными людьми, о уже забываемых парадоксах быта… Но это не просто книга воспоминаний. В ней и яркие полемические рассуждения ученого по жгучим вопросам нашего бытия: причины социальных потрясений, выбор пути развития России, воспитание личности. Написанная легко, зачастую с иронией, она представляет несомненный интерес для читателей.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.