Ницше - [240]
Второе пришествие — пресуществление в Христе всей планеты и «я», обитающих в Базеле, в Петербурге, в Саратове, совершится воистину.
Знание это теперь — математика новой души: в математике этой духовной науки загадана нам и культура грядущего.
Ницшевская мифема круга, вполне возможно, носила экстатически-световой характер, то есть порождена идеей света, мысленные эксперименты с которым несколько позже привели Эйнштейна к созданию другой мифемы — теории относительности. Для Ницше свет порождал визуальные галлюцинации, для Эйнштейна служил пробным камнем интеллектуальных построений.
У Ницше сложились совершенно особые отношения со «светом»: сильнейшие головные боли, постоянные, особенно в последние годы жизни, ухудшение зрения сформировали из него существо, крайне чувствительное к свету и световым эффектам; в тех промежутках между болезненными состояниями, когда чистый свет более не сопутствовал острой боли, а награждал радостью обладания миром живого, радостью «быть», и возникали перцепированные образы, которые современная наука называет фосфенами («остаточные образы»), легко вызываемые даже слабым давлением на глазное яблоко; в зависимости от силы давления и возникает перцептивная геометрия — диски, концентрические окружности, арки, спирали и т. д. На уровне глубинного переживания геометрия фосфенов и геометрия архаических символов могут совпадать.
Письма Ницше и его поздние сочинения полны восторженных изъяснений на языке световых метафор:
«Я весь направлен к свету: он — то, почти единственное, без чего я абсолютно никак не могу обойтись и, думаю, нечем заменить: сияние легких облаков».
Или другое признание:
«Вот и снова ночь вокруг меня: я обрел бы себя, если бы сверкнула молния; благодаря этому краткому мигу напряжения я совершенно полностью овладел бы собой и своим собственным светом».
Внезапные переходы из темноты на свет, то боль, то эйфория светового восторга, привычка грезить с закрытыми глазами, конечно, не могли не сказаться на экзистенциальном и метафизическом опыте Ницше.
Отнюдь не случайно я связал светом стоящего на пороге безумия Ницше и стоящего на пороге великих открытий Эйнштейна: свет оказался порождающей материей представлений о времени того и другого.
Есть нечто временное в неумолимом течении времени. Прошлое, настоящее, грядущее — изобретения нашего ума. Недалеко ушло то время, когда сознание ориентировалось не на изменение, а на постоянство, когда в мире царила устойчивость и когда ветры прогресса еще не разрушали природу. В том мире человек «инстинктивно пытался превзойти или устранить время». И даже когда это ему не удалось, он не отказался окончательно от неподвижности. Так возник образ времени-колеса, которое вечно движется, но постоянно возвращается в исходную точку. Даже в нашем сознании все еще сосуществуют два времени — малоподвижная, почти неизменная вечность, замерзшая в глубинах подсознания, и подвижная повседневность, суетная, взбалмошная, очевидная, но еще более кажущаяся, ведущая рождение к смерти. Идеология великого круга со всеми разновидностями метемпсихоза не может быть изжита в этом вечно пульсирующем мире.
Здесь же коренится явление déjа vu — уже бывшего, самсары.
Мы все испытываем иногда посещающее нас чувство, будто то, что мы говорим и делаем, уже говорилось и делалось когда-то давно — как будто в смутном далеке нас окружали те же лица, вещи и обстоятельства, как будто мы отлично знаем, что произойдет затем, словно мы неожиданно вспомнили это!
Метемпсихоз метачеловека…
«В пучину Времени срываясь…»
«Меняются времена, меняются и слова, но вера неизменна». «Христос родился, рождается и родится».
Время тоже имеет свои сорта, первосортное время — это мгновения, ради которых стоит жить.
Мне пришел на ум также образ выигранного времени. Я спрашиваю: «Выигранного во имя чего?» И мне отвечают: «Во имя культуры».
Грядущее отбрасывает свою тень на настоящее. Это — реальность. И не только Белой Королевы, но каждого из нас. Потому что наше настоящее есть реакция на ожидаемое будущее, видение которого определяет поведение и обостряет восприятие грядущего. Вся наша жизнь в такой же мере переживание будущего, как прошлого или настоящего.
Время может течь вспять — тому множество подтверждений.
Мы живем в мире неподвижного, может быть, отрицательного времени.
И для тех немногих, кто предвидит, время тоже течет вспять. (Есть люди, которые лучше всего помнят события, происшедшие на следующей неделе.)
Для тех немногих, кто помнит, время тоже течет вспять. (Такова память.)
И для тех, кто страдает амнезией, время течет вспять. (Ибо время есть накопление информации, а они ее забывают.)
И для стариков время течет вспять. (Ибо они все теряют.)
И для детей время течет вспять. (Ибо оно течет от искренности ко лжи.)

Если писать историю как историю культуры духа человеческого, то XX век должен получить имя Джойса — Гомера, Данте, Шекспира, Достоевского нашего времени. Элиот сравнивал его "Улисса" с "Войной и миром", но "Улисс" — это и "Одиссея", и "Божественная комедия", и "Гамлет", и "Братья Карамазовы" современности. Подобно тому как Джойс впитал человеческую культуру прошлого, так и культура XX века несет на себе отпечаток его гения. Не подозревая того, мы сегодня говорим, думаем, рефлексируем, фантазируем, мечтаем по Джойсу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
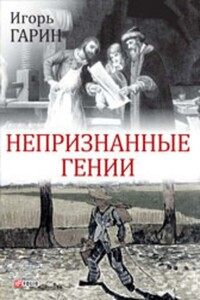
В своей новой книге «Непризнанные гении» Игорь Гарин рассказывает о нелегкой, часто трагической судьбе гениев, признание к которым пришло только после смерти или, в лучшем случае, в конце жизни. При этом автор подробно останавливается на вопросе о природе гениальности, анализируя многие из существующих на сегодня теорий, объясняющих эту самую гениальность, начиная с теории генетической предрасположенности и заканчивая теориями, объясняющими гениальность психическими или физиологическими отклонениями, например, наличием синдрома Морфана (он имелся у Паганини, Линкольна, де Голля), гипоманиакальной депрессии (Шуман, Хемингуэй, Рузвельт, Черчилль) или сексуальных девиаций (Чайковский, Уайльд, Кокто и др.)

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена одному из влиятельнейших философских течений в XX в. — феноменологии. Автор не стремится изложить историю возникновения феноменологии и проследить ее дальнейшее развитие, но предпринимает попытку раскрыть суть феноменологического мышления. Как приложение впервые на русском языке публикуется лекционный курс основателя феноменологии Э. Гуссерля, читанный им в 1910 г. в Геттингене, а также рукописные материалы, связанные с подготовкой и переработкой данного цикла лекций. Для философов и всех интересующихся современным развитием философской мысли.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.