Ницше - [239]
Тот, кто связывает свое существование с какой-либо временной и преходящей целью, кто хочет быть моментом в развитии какого-либо человеческого общества, государства или науки и желает таким образом всецело принадлежать к области преходящего, тот не понял урока, преподанного жизнью, и должен учиться у нее сызнова.
Бесконечность времени, будущего для Ницше — открытость новациям, приход более сильных и мудрых, движение мудрости. В заключительном 491-м афоризме «Утренней зари», озаглавленном «Мы, воздухоплаватели духа», читаем:
Другие птицы полетят дальше! Наши надежда и вера полетят вместе с ними, поднимутся над нашими головами и над нашим бессилием прямо в высоту и будут смотреть оттуда вдаль на стаи более сильных птиц, чем мы; на стаи птиц, которые будут нестись туда, куда стремились и мы и где кругом все море, море и море! Но куда же стремимся мы? Хотим ли перелететь море? Куда влечет нас эта могучая страсть, которая сильнее всех желаний? Почему она влечет нас именно в этом направлении — туда, где закатывались до сих пор все солнца человечества? Может быть, и про нас некогда скажут, что мы, плывя на запад, надеялись достичь Индии, — но что жребий готовил нам разбиться о бесконечность? Или мои братья? Или?..
Здесь море, океан — символы бесконечности перспектив развития сознания, устремленности духа к новым завоеваниям. Ницше любил стихотворение Дж. Леопарди «Бесконечность», особенно последние строки:
Однако его собственное представление о бесконечности связано не с «растворением» мысли в безмерности, не с потоплением в море, но с вечным испытанием человеческого духа бесконечностью, с проверкой силы сознания вечностью: «Бесконечность открывает человеку сферу неизведанного, темного, страшного, и встреча с бесконечностью всегда оказывается трагедией любви духа к ней» (А. Аствацатуров).
«Самое время есть круг», — писал Ницше, весь опыт и все построения которого навязчиво повторяются в образе двойного круга: время, структура космоса и жизненного пути, строение книги, техника афористического письма, принцип организации античного театра… В посмертно опубликованных рукописях Ницше графический образ времени имеет вид двух концентрических кругов с точкой «я» в центре. Внешний круг символизирует «вечность», внутренний — экзистенциальное время, переживаемое субъектом. Движение внешнего круга почти незаметно, движение внутреннего условно может быть разбито на дискретные единицы, столь малые по величине, что невозможно никаким способом разделить прошлое от настоящего и последнее от будущего. Никаким законом или причинно-следственной связью невозможно охватить и всю совокупность всех событий, протекающих во времени.
Наблюдающий круговое время субъект, не являясь неизменным, лишь условно находится в центре двойного круга. Всегда себе неравный, он как бы осциллирует вокруг центра, он всегда эксцентричен. Человек вообще не может претендовать на положение центра мира, как не может быть завершенным «я», «субстанцией», «бытием». Сам человек — движение, переход, изменение состояния.
Движения двойного круга различаются не только по скорости, но и по характеру: движение внешнего — как бы центростремительно, внутреннего — как бы центробежно: «вечность» стремится стать «мгновением», «мгновение» — «вечностью». Парадокс усиливается уравниванием слишком медленного со слишком быстрым.
Ницшеанский «опыт» со временем прекрасно переложен на язык искусства А. Белым, виртуозно вписавшем свое персональное положение во времени (Базель, 1915 г.) в схему Ницше:
Догматы нашей культуры перевоплощались в человечестве, свертываясь по спирали в единую точку; и точка та — «я»; «я» — свободное «я» — есть вершина громадного конуса; от основания (круга) к вершине (блистающей точке) бежала спираль; если круг — «зодиак», опоясавший человечество первого века, то точка есмь «я» (человек, проживающий ныне: в двадцатом столетии); если же повернуть конус времени — линия (или спираль) в этом новом сечении исчезает; мы видим круг с точкою посередине его, точка — «я», находящееся в 1915 году в старом Базеле; круг — это догматы первого века; а катастрофа культуры — в естественном перемещении зрения перпендикулярно к истории; кажется, что спираль, пробегающая от громадного круга до маленькой точки, до «я» (на протяжении двадцати веков), совершается в тот же момент: круг пришествия (догмат) и «я» (иль пришедший) таинственно связаны; тайна пришествия есть: пришествия «я» (совершенно свободного)… в Базель.
Если бы человек попытался себя пережить, как пришедшего, и если бы всю историю девятнадцати с лишним столетий рассматривал он, как сниманье печатей, разоблачающих миссию «я» (моего), переживающего, здесь, в Базеле, мировую Голгофу, то — ему бы открылось все то, что из недра сознания Ницше исторгло безумнейший крик: «Ecce homo» сначала; следствие «Ecce homo» — последняя подпись безумного Ницше, гласящая, это он есть Распятый… (Дионис).
Но в этот же миг сознается обратное: «я», разрываясь в себе, распинаясь в себе, посередине себя наблюдает огромную ночь; посередине ее стоит Солнце; но Самое Солнце — Круг Солнца — есть Лик, восходящий во мне: «я», всходящее в «я», отделимо от «я» безысходной далью («я — путь и стремление к дальнему»); дальнее приближается в страшной работе преодоленья Сознания; я несу в себе целое Солнце, но «я» не есмь «Солнце», и если бы мне графически выразить отношение «точки» («я» личное) к Солнцу во мне, мне бы следовало нарисовать вдалеке от вершины истории двадцати веков (конуса) — круг; и — провести к нему линию; получился бы конус, обратно поставленный; «точка», мгновение, или «

Если писать историю как историю культуры духа человеческого, то XX век должен получить имя Джойса — Гомера, Данте, Шекспира, Достоевского нашего времени. Элиот сравнивал его "Улисса" с "Войной и миром", но "Улисс" — это и "Одиссея", и "Божественная комедия", и "Гамлет", и "Братья Карамазовы" современности. Подобно тому как Джойс впитал человеческую культуру прошлого, так и культура XX века несет на себе отпечаток его гения. Не подозревая того, мы сегодня говорим, думаем, рефлексируем, фантазируем, мечтаем по Джойсу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
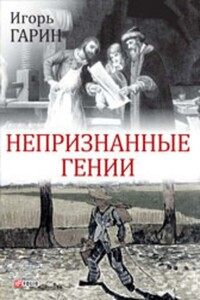
В своей новой книге «Непризнанные гении» Игорь Гарин рассказывает о нелегкой, часто трагической судьбе гениев, признание к которым пришло только после смерти или, в лучшем случае, в конце жизни. При этом автор подробно останавливается на вопросе о природе гениальности, анализируя многие из существующих на сегодня теорий, объясняющих эту самую гениальность, начиная с теории генетической предрасположенности и заканчивая теориями, объясняющими гениальность психическими или физиологическими отклонениями, например, наличием синдрома Морфана (он имелся у Паганини, Линкольна, де Голля), гипоманиакальной депрессии (Шуман, Хемингуэй, Рузвельт, Черчилль) или сексуальных девиаций (Чайковский, Уайльд, Кокто и др.)
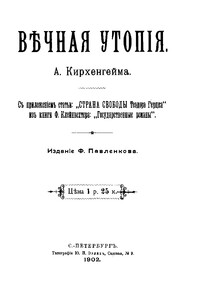
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
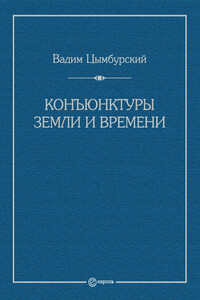
В сборнике статей отечественного филолога и политолога Вадима Цымбурского представлены «интеллектуальные расследования» ученого по отдельным вопросам российской геополитики и хронополитики; несколько развернутых рецензий на современные труды в этих областях знания; цикл работ, посвященных понятию суверенитета в российском и мировом политическом дискурсе; набросок собственной теории рационального поведения и очерк исторической поэтики в контексте филологической теории драмы. Сборник открывает обширное авторское введение: в нем ученый подводит итог всей своей деятельности в сфере теоретической политологии, которой Вадим Цымбурский, один из виднейших отечественных филологов-классиков, крупнейший в России специалист по гомеровскому эпосу, посвятил последние двадцать лет своей жизни и в которой он оставил свой яркий след.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ж.-П. Вернан - известный антиковед, в своей работе пытается доступно изложить происхождение греческой мысли и показать ее особенности. Основная мысль Вернана заключается в следующем. Существует тесная связь между нововведениями, внесенными первыми ионийскими философами VI в. до н. э. в само мышление, а именно: реалистический характер идеи космического порядка, основанный на законе уравновешенного соотношения между конститутивными элементами мира, и геометрическая интерпретация реальности,— с одной стороны, и изменениями в общественной жизни, политических отношениях и духовных структурах, которые повлекла за собой организация полиса,— с другой.

Новая книга политического философа Артемия Магуна, доцента Факультета Свободных Искусств и Наук СПБГУ, доцента Европейского университета в С. — Петербурге, — одновременно учебник по политической философии Нового времени и трактат о сущности политического. В книге рассказывается о наиболее влиятельных системах политической мысли; фактически читатель вводится в богатейшую традицию дискуссий об объединении и разъединении людей, которая до сих пор, в силу понятных причин, остается мало освоенной в российской культуре и политике.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.