Ничто. Остров и демоны - [13]
— Может, зайдешь, Андрея?
Тетя Ангустиас сидела, закрыв лицо руками. Я чувствовала, что она смотрит на меня сквозь раздвинутые пальцы, смотрит взглядом тоскливым, жгучим, просящим. Но я поднималась.
— Хорошо, зайду.
В награду я получала взволнованную улыбку бабушки. А тетя убегала в свою комнату и запиралась. Она была возмущена. Я подозреваю, что она дрожала от ревнивой злобы.
Комната Глории чем-то походила на логово зверя. Это была внутренняя комната, почти всю ее занимали супружеское ложе и детская кроватка. Воздух там был совсем особый, пропитанный испарениями: пахло маленьким ребенком, пудрой и грязным бельем. Стены сплошь залеплены фотографиями, на лучшем, ярко освещенном месте висела открытка с изображением двух котят.
Глория усаживалась на край постели, держа ребенка на коленях. Ребенок был хорошенький, он засыпал, толстенькие, грязные ножки свешивались вниз.
Глория укладывала его в кроватку и, с наслаждением потягиваясь, запускала руки в свои пышные блестящие волосы. Потом томно вытягивалась на постели.
— Какого ты обо мне мнения? — часто спрашивала она.
Мне нравилось с нею разговаривать. На ее вопросы не нужно было отвечать.
— Правда, я красивая и совсем еще молодая? Правда?
Тщеславие ее было глупым и наивным, оно не раздражало; к тому же она и на самом деле была молода и могла хохотать как безумная, рассказывая разные истории про моих родных. Когда она говорила об Антонии или Ангустиас, она бывала по-настоящему остроумной.
— Скоро ты узнаешь этих людей. Они ужасны. Вот посмотришь… Все злые, кроме бабушки, хоть она, бедная, и не в себе. И Хуан — хороший, Хуан — самый хороший… Он вечно орет — ты сама слышала. Все равно — он самый хороший…
Замкнутое выражение моего лица смешило ее, и она начинала хохотать…
— И я тоже хорошая. Не веришь? — наконец говорила она. — Андрея, если бы я не была хорошей, как бы я их всех терпела?
Я смотрела, как она оживляется, с каким неизъяснимым удовольствием болтает. Воздух в комнате был спертый, Глория лежала на кровати, словно тряпичная кукла со слишком тяжелой для нее копной рыжих волос. Она рассказывала мне забавные выдумки, перемежая их с действительными событиями. Она не казалась мне умной, очарование ее шло не от ума. Моя симпатия к ней началась, должно быть, с того дня, как я увидела ее голой, позирующей Хуану.
Я никогда не входила в комнату, где работал мой дядя: у меня к нему было какое-то предубеждение. Я зашла туда как-то утром по совету бабушки, — мне нужен был карандаш, и она сказала, чтобы я попросила у Хуана.
Большая студия выглядела весьма забавно. Ее устроили в бывшем кабинете деда. Как и в других комнатах, словно по традиции, здесь в беспорядке громоздились книги, бумаги и гипсовые скульптуры, служившие моделями ученикам Хуана. Жестко написанные натюрморты пронзительных тонов работы Хуана сплошь покрывали стены. В углу стоял неизвестно для чего скелет, скрепленный проволочками: по таким студенты изучают анатомию. На большом, в мокрых пятнах ковре барахтался ребенок; сидел здесь и кот, он забрел в эту комнату в поисках солнца, падавшего золотыми бликами сквозь балконные стекла. Кот с полным безразличием терпел приставания ребенка, хвост у него совсем обвис, похоже, он был при последнем издыхании. И среди всего этого на покрытом занавеской табурете в неудобной позе сидела голая Глория.
Хуан писал прилежно и бесталанно. Он тщательно клал мазок к мазку, пытаясь воспроизвести ее тонкое, гибкое тело. Но все его усилия были тщетны. На холсте появлялась картонная кукла с тем глупым лицом, какое бывало у Глории, когда она слушала мои разговоры с Романом. Теперь на Глории не было ее драного платья, и среди уродства окружавших ее вещей она казалась неправдоподобно красивой и белой, каким-то божьим чудом. Сладостный и в то же время опасный дух трепетал в прекрасных формах ее ног, ее рук, ее маленьких грудей. Горячая, блистающая кожа словно источала ту самую духовность и интеллект, которые никогда не светились в ее глазах. Тот самый духовный жар, который так привлекает нас в незаурядных людях и произведениях высокого искусства.
Зайдя всего на несколько секунд, я, очарованная, осталась там. Хуан как будто был доволен моим посещением и торопливо рассказывал о своих планах. Я его не слушала.
В тот вечер, почти безотчетно, я завела с Глорией разговор и впервые вошла в ее комнату. Лениво, с удовольствием, как слушают шум дождя, слушала я ее бессодержательную болтовню.
Я начинала привыкать к ней, к ее быстрым, не требующим ответа вопросам, к ее прихотливому и ограниченному уму.
— Да, да… Я хорошая… Не смейся.
Мы молчали. Она придвигалась ко мне и спрашивала:
— А Роман? Какого ты мнения о Романе?
Потом, погрозив мне пальцем:
— Уж я знаю, что он тебе симпатичен. Разве не правда?
Я пожимала плечами. Через минуту она говорила:
— Он тебе симпатичней, чем Хуан? Разве не правда?
Как-то раз, совсем неожиданно, она расплакалась. Плакала Глория необычно, отрывисто и быстро, словно сама хотела скорее перестать.
— Роман — скверный, злой человек, — сказала она. — Ты его еще узнаешь. Я от него много натерпелась, Андрея. — Она вытерла слезы. — Я тебе сразу не расскажу всего, что он мне сделал худого, слишком долго рассказывать. Узнаешь понемногу. Сейчас ты им очарована и ни за что не поверишь.
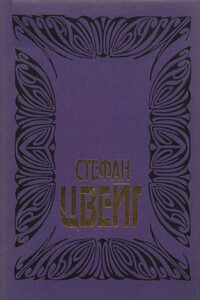
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881—1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В первый том вошел цикл новелл под общим названием «Цепь».

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.
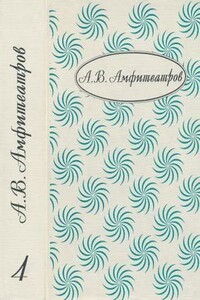
В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.
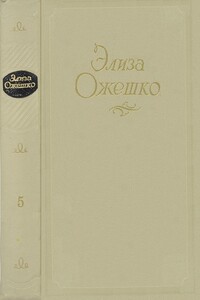
В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».