Ничто. Остров и демоны - [15]
За окошечком темнело ночное небо. Свет лампы делал Романа выше, монументальнее, казалось, он дышит одним — музыкой. И на меня волнами накатывали сперва наивные воспоминания, мечты, споры, мое собственное зыбкое существование, потом бурные радости, печали, отчаяние, бесплодная судорога жизни и провал в ничто. Моя смерть, мое безысходное отчаяние — все оборачивалось красотой и щемящей беспросветной гармонией.
И внезапно — безмерность тишины, и потом — голос Романа:
— А ведь тебя можно гипнотизировать. Что тебе говорит музыка?
Мгновенно сжимались руки, мгновенно сжималась душа.
— Ничего не говорит. Не знаю… Просто нравится…
— Неправда. Скажи, что она тебе говорит? Вот в конце, что она тебе говорит в конце?
— Ничего.
Мгновение он глядел на меня, обманутый в своих ожиданиях. Потом, пряча скрипку:
— Неправда.
Он светил мне сверху электрическим фонариком, потому что зажечь свет на лестнице можно было только снизу, от привратницы, а до нашей квартиры надо было спускаться три этажа.
В первый раз мне показалось, будто передо мной в темноте кто-то идет. Я решила, что это мои детские страхи, и ничего не сказала.
На следующий раз ощущение было более явственно. Вдруг Роман оставил меня в темноте и направил свет фонарика на ту часть лестницы, где что-то шевелилось. И я отчетливо, хоть и мельком, увидела Глорию, которая бежала по лестнице вниз, к парадному.
Сколько бессмысленно прожитых дней! Все бессмысленно прожитые дни, сколько их накопилось со времени моего приезда, давили на меня, когда я тащилась домой из университета. Они давили на меня, будто на голову мне положили тяжелый серый камень.
Погода стояла дождливая, утро пахло тучами и мокрыми шинами… Увядшие, пожелтевшие листья медленным дождем падали с деревьев. Осеннее утро в городе. Как я годами мечтала, чтобы был город и осень, красивая, прильнувшая к плоским крышам домов, запутавшаяся в трамвайных проводах. И все же меня охватывала тоска. Мне хотелось прислониться к стене, уткнуться головой в руки, закрыть глаза и ничего не видеть.
Сколько бесполезно прожитых дней! Дней, когда я только и делала, что слушала разные истории. Слишком их было много — невнятных историй без конца и без начала, едва только начатых и уже разбухших, как старая древесина в непогоду. Историй, которые казались мне слишком темными. Их запах, а это был все тот же запах гнили, что царил в доме, вызывал у меня тошноту. И тем не менее тогда только он и привлекал меня. Мои собственные дела отошли мало-помалу на задний план, чувства мои воспринимали лишь жизнь, клокотавшую в квартире на улице Арибау. Я совсем уже не думала о своей внешности, позабыла о своих мечтах…
Уже не имели значения ни запахи месяцев, ни мечты о будущем, зато безмерно разрастался смысл каждого жеста Глории, каждого неясного слова, каждой недомолвки Романа. Наверное, из-за этого я в конце концов и затосковала.
Едва я вошла в дом, как начался дождь, и привратница поспешила крикнуть мне, чтобы я хорошенько вытерла ноги о коврик.
Весь день прошел как во сне. Поев, я робко уселась возле бабушкиной жаровни, на ногах у меня были огромные войлочные туфли. Я слушала шум дождя. Нити воды тянулись по стеклу и смывали пыль с балконной двери. Сперва они покрыли стекло липкой грязью, потом капли стали свободно скатываться по блестящей серой поверхности.
Мне ничего не хотелось делать, не хотелось даже шевелиться. Теперь, может быть, впервые в жизни, я бы дорого дала за такую сигарету, какие были у Романа. Пришла составить мне компанию бабушка. Я смотрела, как она неловкими трясущимися руками пыталась шить платьице для малыша. Через минуту пришла и Глория и, закинув руки за голову, принялась болтать. Бабушка тоже говорила, как всегда, об одном и том же: о событиях недавних — о минувшей войне — и о совсем давнишних, когда ее дети были маленькими. Голова у меня побаливала, и мне казалось, что голоса сливаются и под аккомпанемент дождя поют какую-то старинную мелодию, усыпляя меня.
Бабушка. Не было братьев, которые любили бы друг друга сильнее. Ты слушаешь меня, Андрея? Не было других таких братьев, как Роман и Хуанито… У меня ведь было шестеро детей. Четверо других жили каждый сам по себе. Девочки ссорились между собой, а эти, младшие, ну словно два ангелочка… Хуан блондин, а Роман такой смуглый… Я их всегда одевала одинаково. По воскресеньям они ходили к мессе со мной и твоим дедушкой… Если в школе кто-нибудь нападал на одного, второй был тут как тут и защищал брата. Роман был похитрее… Но как они любили друг друга! Для матери все дети должны быть одинаковы, но эти двое мне дороже всех… Они ведь младшие… Незадачливые они… Особенно Хуан.
Глория. Знаешь, Хуан ведь хотел стать военным. В академию его не приняли, и он уехал в Африку, в иностранный легион, и пробыл там много лет.
Бабушка. Он привез оттуда много картин… Твой дедушка рассердился, когда он сказал, что хочет заняться живописью, но я вступилась за него, и Роман тоже, потому что тогда, доченька, Роман был добрым… Я всегда защищала своих детей, утаивала их проделки и даже злые проказы покрывала. Твой дедушка сердился на меня, но я не могла выдержать, чтобы моих детей бранили. Я думала так: «Лучше всего мухи ловятся на ложку меда…» Я знала, что они возвращаются с вечеринок поздно ночью, что они совсем не учатся… Я ждала их и дрожала от страха, как бы твой дедушка не узнал… Они мне рассказывали о своих проделках, и я ничуть всему этому, доченька, не удивлялась. Я верила, что мало-помалу они поймут, что хорошо, что плохо, сердце им подскажет.

Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры объявивший об уходе из литературы и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой американской провинции. Книги Сэлинджера стали переломной вехой в истории мировой литературы и сделались настольными для многих поколений молодых бунтарей от битников и хиппи до современных радикальных молодежных движений. Повести «Фрэнни» и «Зуи» наряду с таким бесспорным шедевром Сэлинджера, как «Над пропастью во ржи», входят в золотой фонд сокровищницы всемирной литературы.

В книгу вошли стихотворения английских поэтов эпохи королевы Виктории (XIX век). Всего 57 поэтов, разных по стилю, школам, мировоззрению, таланту и, наконец, по их значению в истории английской литературы. Их творчество представляет собой непрерывный процесс развития английской поэзии, начиная с эпохи Возрождения, и особенно заметный в исключительно важной для всех поэтических душ теме – теме любви. В этой книге читатель встретит и знакомые имена: Уильям Блейк, Джордж Байрон, Перси Биши Шелли, Уильям Вордсворт, Джон Китс, Роберт Браунинг, Альфред Теннисон, Алджернон Чарльз Суинбёрн, Данте Габриэль Россетти, Редьярд Киплинг, Оскар Уайльд, а также поэтов малознакомых или незнакомых совсем.
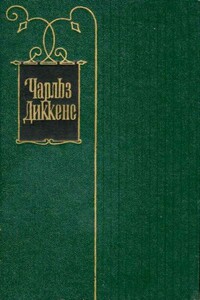
«Приключения Оливера Твиста» — самый знаменитый роман великого Диккенса. История мальчика, оказавшегося сиротой, вынужденного скитаться по мрачным трущобам Лондона. Перипетии судьбы маленького героя, многочисленные встречи на его пути и счастливый конец трудных и опасных приключений — все это вызывает неподдельный интерес у множества читателей всего мира. Роман впервые печатался с февраля 1837 по март 1839 года в новом журнале «Bentley's Miscellany» («Смесь Бентли»), редактором которого издатель Бентли пригласил Диккенса.
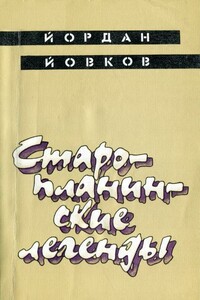
В книгу вошли лучшие рассказы замечательного мастера этого жанра Йордана Йовкова (1880—1937). Цикл «Старопланинские легенды», построенный на материале народных песен и преданий, воскрешает прошлое болгарского народа. Для всего творчества Йовкова характерно своеобразное переплетение трезвого реализма с романтической приподнятостью.

«Много лет тому назад в Нью-Йорке в одном из домов, расположенных на улице Ван Бюрен в районе между Томккинс авеню и Трууп авеню, проживал человек с прекрасной, нежной душой. Его уже нет здесь теперь. Воспоминание о нем неразрывно связано с одной трагедией и с бесчестием…».
