Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения - [91]
Карнавал Достоевского самодостаточен и как мир, и как литературный аппарат, позволяющий автору превратить роман в ярмарку точек зрения. Продукт и вектор полифонии. Следует заметить, что русская лагерная литература в большинстве своем приняла и присвоила гетероглоссию Достоевского, сделав «другого» и его «чужое» слово неотъемлемой частью собственной поэтики.
В «Колымских рассказах» дело обстоит иначе. В отличие от Гинзбург, в воспоминаниях которой «все говорят»[176], в отличие от Солженицына, чей авторский голос часто исчезает под тяжестью голосов «Архипелага ГУЛАГ», Шаламов не оставляет читателю выбора. За тонким налетом речевых характеристик всегда можно услышать один мощный голос, и это не вполне голос автора.
В первом рассказе цикла «По снегу» Шаламов отчетливо дает понять, что многочисленные рассказчики и автор «Колымских рассказов» – одно и то же лицо. Но, заняв командную повествовательную высоту, Шаламов тут же квалифицирует рассказчика/рассказчиков как объект в лучшем случае полуодушевленный. Подробное описание распадающегося тела, не вполне соединенного с собственной душой (находящейся, впрочем, не в лучшем состоянии), убеждает читателя в том, что смертельно голодный, полузамерзший, обмороженный и, вероятно, уже неживой рассказчик попросту не располагает достаточными ресурсами, чтобы поведать читателю что бы то ни было, кроме фактов. На ложь, т. е. целенаправленную реконструкцию реальности, у него не хватит нейронов. Внутри повествования Шаламов – не Орфей, который отважился спуститься в Ад и вернулся, но Плутон[177], неотъемлемый и не вполне живой параметр преисподней, описывающий свою среду обитания на присущем ей – и ему – языке.
Внутри этой вселенной воспоминания о лагере как бы безличны, потому что з/к з/к неспособны сохранить хотя бы часть прежней личности, достаточную чтобы контаминировать повествование. Здесь (на данном социальном лагерном уровне) нет места «другому», потому что «другой» тоже поглощен агрессивной внешней средой. Нет места и для «я». Образовавшиеся лакуны заполняются автоматическими реакциями, продиктованными той самой средой. Любая сложная формация, любая структура – будь то религия, социальная система, цитата из классики или случайно подвернувшееся человеческое тело – используется в «Колымских рассказах» как зонд. Характер, мера и степень ущерба, нанесенного зонду чуждой вселенной, позволяют в некоторой степени судить о природе этой вселенной. И в конечном счете единственным истинным голосом в «Колымских рассказах» остается голос самого лагеря.
Тем не менее этот монофонический текст основан на тех же предпосылках, что и захлебывающийся псевдоавантюрный театр Достоевского. Все социальные и культурные характеристики персонажей совлечены, все барьеры убраны, и люди взаимодействуют в комбинациях, удивительных даже для относительно эгалитарного советского общества.
Были в бригаде и еще какие-то люди, закутанные в тряпье, одинаково грязные и голодные, с одинаковым блеском в глазах. Кто они? Генералы? Герои испанской войны? Русские писатели? Колхозники из Волоколамска? (2: 114)
Шаламов начинает там, где Достоевский останавливается. Он прокладывает коммуникационную линию «от человека к человеку», обходя все «искусственные» барьеры. Он представляет нам людей, встречающихся в бесконечности (ибо в отсутствие непрерывного времени вселенский лагерь воспринимается как вечный[178]) в момент кризиса, перед лицом неизбежной смерти.
Просьба, с которой Шатов обращается к Ставрогину, получает буквальное (можно сказать, дословное) воплощение. Большая часть персонажей Шаламова счастливо достигла состояния не нагруженного цивилизационными, культурными и социальными условностями, чистого «человеческого голоса», и тут обнаружилось, что в этом голосе не осталось ничего человеческого и что его крайне затруднительно использовать для общения. Людям, находящимся на одном уровне дезинтеграции, не требуется обмен информацией, поскольку они существуют как единая составная личность. Собственно, использование «мы» вместо «я» типично для «Колымских рассказов». Что касается людей из – пока – разных слоев, то барьер между ними настолько велик, что является надежной преградой для какой бы то ни было коммуникации.
Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейки, и поутру я глядел на соседа, как на мертвеца, и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду. (1: 399–400)
Как и о чем может разговаривать рассказчик «Сентенции», только что заново приобретший способность замечать окружающих, со своим соседом, еще не вернувшимся в теплокровные?[179]
Карнавал, который для Достоевского (во всяком случае, в рамках его восприятия в 1960–1970-х) был мощным литературным инструментом и средством выражения философской позиции, для Шаламова – не экзотика, а невыносимая повседневная, бытовая реальность лагеря, реальность, от которой следовало бежать – почти любой ценой. В «Колымских рассказах» единственный действенный способ противостоять этому карнавальному распаду (естественно, на время) – попытаться укоренить свою личность в той или иной социальной функции, существующей вне лагерной вселенной. Стать Фельдшером, Инженером, Солдатом, Писателем, социальным конструктом, действия которого диктуются требованиями работы и профессиональным кодексом, а не окружающей средой или личными предпочтениями.
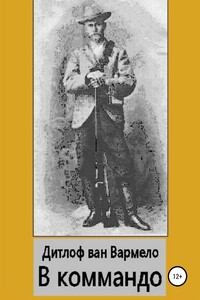
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.
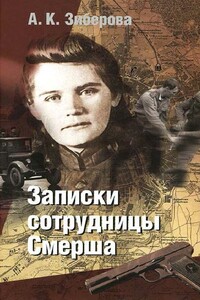
Книга А.К.Зиберовой «Записки сотрудницы Смерша» охватывает период с начала 1920-х годов и по наши дни. Во время Великой Отечественной войны Анна Кузьминична, выпускница Московского педагогического института, пришла на службу в военную контрразведку и проработала в органах государственной безопасности более сорока лет. Об этой службе, о сотрудниках военной контрразведки, а также о Москве 1920-2010-х рассказывает ее книга.
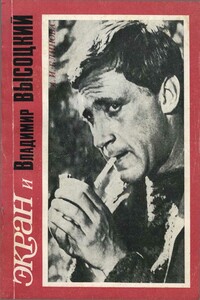
В работе А. И. Блиновой рассматривается история творческой биографии В. С. Высоцкого на экране, ее особенности. На основе подробного анализа экранных ролей Владимира Высоцкого автор исследует поступательный процесс его актерского становления — от первых, эпизодических до главных, масштабных, мощных образов. В книге использованы отрывки из писем Владимира Высоцкого, рассказы его друзей, коллег.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.