Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения - [89]
В статье, посвященной раннему рассказу Достоевского «Господин Прохарчин», В. Н. Топоров пишет:
Типовые высказывания о «жестокости», «беспощадности» Достоевского, принадлежащие тем, кто боится оставить добровольную «темницу» своего неподлинного существования, кто не хочет и не может пройти через страх (Angst) к свободному выбору, основаны в значительной степени не на «страшных» темах, а на этой принудительности в отношении Достоевского (его текстов) к читателю, не оставляющей ему укрытия, лишающей его комфортности, собственной инерциальности, права в удобный момент выйти из становящейся опасной игры, когда уже близки «запретные пределы естества». (Топоров 1995: 171)
Достоевский организует структурные и семантические элементы своего текста так, чтобы навязать читателю то психическое и эмоциональное состояние, которое, как ему представлялось, было бы результатом участия в подобной сцене в реальной жизни.
А. Синявский утверждает, что одной из самых интересных особенностей «Колымских рассказов» является присущая им сила принуждения, способность писателя сделать процесс чтения таким же всеохватным и неизбежным, как сам лагерь, – и заставить читателя еще на один шаг приблизиться к этому опыту:
Читателю здесь трудно приходится. В отличие от других литературных произведений, читатель в «Колымских рассказах» приравнивается не к автору, не к писателю (который «все знает» и ведет за собой читателя), но – к арестованному. К человеку, запретному в условиях рассказа. Выбора нет. Изволь читать подряд эти короткие повести, не находя отдохновения, тащить бревно, тачку с камнем…Ко всей существующей лагерной литературе Шаламов в «Колымских рассказах» – антипод. Он не оставляет нам никакого выхода. Кажется, он так же беспощаден к читателям, как жизнь была беспощадна к нему, к людям, которых он изображает. Как Колыма. Отсюда ощущение подлинности, адекватности текста – сюжету. (Синявский 1994: 227)
Как и Достоевский, Шаламов пытается сделать свой текст функциональным двойником невыносимой реальности. Запертый в ограниченном пространстве, лишенный той защиты, которую обычно дает литература, читатель вынужден взаимодействовать с текстом как с событием первой, физической реальности. Обоим авторам необходим именно этот «сырой», неосвоенный, необработанный уровень вовлеченности. Отсутствие дистанции.
До какого-то момента методы, используемые Шаламовым, по структуре своей и назначению очень похожи на то, чем пользуется Достоевский, но вчитываясь, мы начинаем замечать некий сдвиг, несоответствие. И Достоевский, и Шаламов стремятся преодолеть дистанцию между текстом и читателем, сдвинуть аудиторию с пассивной, воспринимающей позиции. Но Достоевский действует не только принуждением, он приглашает к со-участию, со-авторству. Тот же В. Н. Топоров отмечает, что базовые значения прозы Достоевского каждый раз остаются как бы неподтвержденными, незаконченными, недосформулированными, они намеренно заданы так, чтобы при каждом чтении их приходилось изобретать заново.
Шаламов поступает иначе. В его текстах, казалось бы, несвязанные подробности соединяются и сталкиваются, формируя семантические цепи, которые в конечном счете охватывают все возможные значения каждого слова или словосочетания. Каждая текстовая единица содержит огромное количество одинаково возможных интерпретаций – и читатель вынужден все время выбирать между ними.
Там, где Достоевский оставляет лакуну, Шаламов действует через переизбыток.
Оба автора описывают, по существу, хаотические системы. В случае Достоевского выбор авантюрного романа как жанра-носителя заведомо делает мир его прозы индетерминированным и непредсказуемым, а почти немедленно осуществляемый подрыв, делегитимация этого жанра лишь добавляет хаосоемкости тексту. Над повествованием, как над водами, витает слово «внезапно».
В шаламовском же лагерном мире внезапность в некотором смысле невозможна, поскольку внезапно все. Цепочка причинно-следственных связей бесповоротно нарушена, и любое действие может вызвать почти любые последствия – в границах неизбежной гибели.
Достоевский использует хаос в попытке достичь высшей гармонии. Он рассматривает его как переходное состояние. Как только совершенство будет достигнуто, хаос сделается частью общего хора. Выбор Шаламова – изобразить хаос через хаос (блестящее тактическое решение, благодаря которому центробежные семантические силы работали на текст, а не против него) – означает, в частности, признание того обстоятельства, что эта дисгармония – часть подлинной реальности, что она должна быть включена в каждое уравнение, иначе уравнение это не проживет долго. Хаос обладает самостоятельным бытием – и лагерь тоже. Достигнув этих прежде неизвестных берегов, нанеся их на карту, вы уже не можете стереть их из памяти или с поверхности планеты.
И Достоевский, и Шаламов насыщают свои произведения постоянным присутствием Бога.
В «Колымских рассказах» христианская символика буквально вписана в лагерный быт. Один из главных героев (узнаваемый «двойник» автора) носит фамилию Крист, которая по-русски связана как с Христом, так и с крестом. Другого зовут Голубев. Довольно часто сами названия рассказов (например, «Апостол Павел», «Вечерняя молитва», «Крест», «Необращенный») прямо отсылают читателя к Новому Завету. Не менее часто мотивная структура рассказов ненавязчиво обнажает кощунственную, профанационную природу лагерной реальности
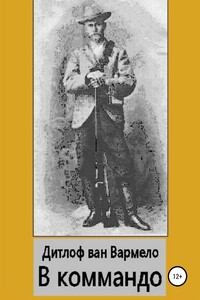
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.
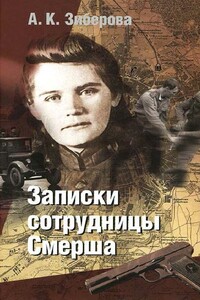
Книга А.К.Зиберовой «Записки сотрудницы Смерша» охватывает период с начала 1920-х годов и по наши дни. Во время Великой Отечественной войны Анна Кузьминична, выпускница Московского педагогического института, пришла на службу в военную контрразведку и проработала в органах государственной безопасности более сорока лет. Об этой службе, о сотрудниках военной контрразведки, а также о Москве 1920-2010-х рассказывает ее книга.
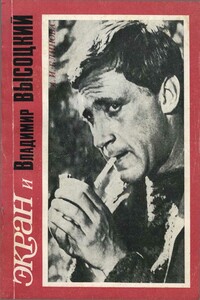
В работе А. И. Блиновой рассматривается история творческой биографии В. С. Высоцкого на экране, ее особенности. На основе подробного анализа экранных ролей Владимира Высоцкого автор исследует поступательный процесс его актерского становления — от первых, эпизодических до главных, масштабных, мощных образов. В книге использованы отрывки из писем Владимира Высоцкого, рассказы его друзей, коллег.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.