Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения - [84]
Функционально всё это машины, срабатывающие так же, как виселица, когда из-под человека выбивают подпорку. В них существенно то, что их части накрепко спаяны и автоматически передают действие в назначенном направлении до нужной точки. Попав на «вход» машины, предмет быстро и «с гарантией» доставляется на ее «выход». (Жолковский 1967: 149)
Это та самая статья Жолковского «Deus ex machina». И там же мы находим описание второго необратимого механизма, задействованного в «Инжекторе».
В более слабо выраженных разновидностях такого цитирования [т. е. использования языковой или сюжетной ситуации, «где, сказав А, надо сказать и В»,] автор ограничивается так или иначе построенным сравнением своих героев и ситуаций с готовыми. Это типичная сфера всякого рода «театра в театре». Классические примеры – «мышеловка» в «Гамлете» и «пещное действо» в «Иване Грозном» С. М. Эйзенштейна. (Там же: 150).
«Готовую ситуацию» «Инжектора» аудитория опознавала с легкостью (чему, добавим, способствовала и характерная для Шаламова игра с фонетикой). Например, Н. В. Тищенко в статье о дискурсивных практиках ГУЛАГа заканчивает абзац об «Инжекторе» словами «Поручик Киже шагнул в XX век…» (Тищенко 2012: 50). И действительно, имперская традиция административного сотворения людей из самого неподходящего материала дополняется в «Инжекторе» подлинно советским демократизмом, ибо для достижения нужной концентрации государственного ужаса, только и способного порождать человеческие фантомы, уже не требуется лично государь император, достаточно начальника прииска. Впрочем, и тыняновский сюжет, позволяющий достроить судьбу з/к Инжектора за пределы рассказа, у Шаламова инверсирован и не выдерживает лагерного давления – нет никаких оснований ожидать, что з/к Инжектор, буде распоряжение водворить и расследовать его окажется принятым к исполнению, так и останется лицом, «фигуры не имеющим», – скорее всего, какую-никакую фигуру на это место отыщут. Там, где не выживают термометры, ужасы прежних времен не выживают тоже.
Собственно, когда три года спустя Шаламов вернется к сюжету «Подпоручика…» в рассказе «Берды Онже», в «кадре» окажется именно эта часть истории. Машинистка (заменяющая тыняновского молодого и неопытного писаря) случайно занумерует кличку некоего уголовника «он же Берды» под отдельным номером 60 – как еще одного человека в списке этапа. Конвой, обнаружив «пропажу» на полдороге, уже в Новосибирске, устрашится строгости законов образца 1942 года и решит восполнить недостачу своими силами. Так случайный туркмен Тошаев будет задержан на вокзале, окажется на Колыме, выучит русский и научится откликаться на фамилию «Онже».
Заметим, что вторым «готовым текстом», по рельсам которого едет «Берды Онже», является, вероятно, «Багаж» Маршака (опубликованный в 1926 году): именно там сотрудники железной дороги, хватившись «на станции Дно», что «потеряно место одно», заполняют его первой попавшейся кандидатурой, обнаруженной на перроне, и интересуются ее желаниями примерно в той же мере и степени, что и конвой[151]. Впрочем, государство как приемщик отличается от старорежимной дамы в худшую сторону.
Кстати, пересмотр дела в случае Тошаева крайне затруднен ввиду отсутствия собственно дела. «Бывшему поручику Синюхаеву, выключенному из списка за смертью, отказать по той же самой причине» (Тынянов 1956: 292).
Здесь мы хотели бы добавить, что с рассказом «Берды Онже» связана одна важная для этого сюжета странная история. В работе «Социальная жизнь русских фамилий», послесловии к переводу книги Бориса Унбегауна «Русские фамилии», Борис Андреевич Успенский сошлется на Шаламова именно в контексте «Подпоручика Киже»:
Новелла Тынянова представляет собой литературную обработку исторического анекдота павловского времени, в котором отразилось, по-видимому, вполне реальное происшествие…Случаи такого рода имели место и позднее: один из них описан В. Т. Шаламовым в документальном рассказе «Берды Онже». (Успенский 1994: 184)
И далее следует ссылка на парижское издание «Колымских рассказов» 1982 года.
Иными словами, литературный текст, явным, демонстративным, проговариваемым образом построенный как лагерная ре- или, скорее, деконструкция двух других сугубо литературных текстов[152], прямо назван документальным рассказом и использован в научной работе в качестве доказательства тому, что материализация описок имела место в реальности и после инцидента с поручиком Киже[153]. И вывод этот делает блистательный литературовед, внимательно читавший Шаламова – читавший его во времена, когда это было опасным делом, и в 1989 году (именно тогда было написано послесловие), а также в последующих редакциях автоматически цитирующий его по тамиздату (а не, например, по журналу «Родина»)[154].
И точно так же Варлам Шаламов не опознаёт в работе Жолковского описание применявшихся им в «Колымских рассказах» композиционных и риторических приемов и, что еще интереснее, литературную теорию.
Вернемся к той цитате, которая так задела Юлия Шрейдера. Полностью она звучит так:
По Аристотелю, фабула может развиваться либо естественно, сама по себе, либо с помощью машины, причем последнее (deus ex machina!) – нежелательно. Мы же хотим представлять себе всякое художественное произведение как своего рода машину, обрабатывающую сознание читателя – машину, на первый взгляд, лишь в переносном смысле, но в действительности, по-видимому, и во вполне серьезном, кибернетическом смысле – как особого рода преобразователь и т. д. Одним из аргументов в пользу тезиса о том, что всякое художественное построение, – фабула, развязка, сцена – само по себе и есть машина… (Жолковский 1967: 146)

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
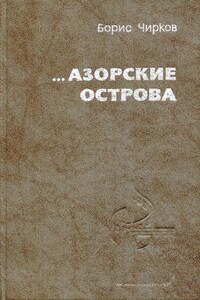
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
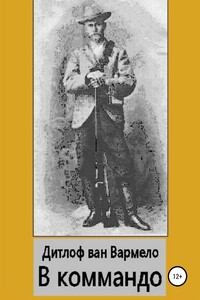
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.
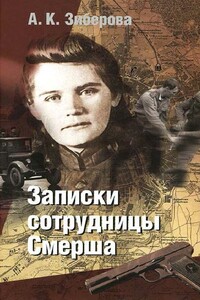
Книга А.К.Зиберовой «Записки сотрудницы Смерша» охватывает период с начала 1920-х годов и по наши дни. Во время Великой Отечественной войны Анна Кузьминична, выпускница Московского педагогического института, пришла на службу в военную контрразведку и проработала в органах государственной безопасности более сорока лет. Об этой службе, о сотрудниках военной контрразведки, а также о Москве 1920-2010-х рассказывает ее книга.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.