Невиновные в Нюрнберге - [21]
— Не может быть! — воскликнула я, неожиданно для себя самой. — Пан прокурор, послушайте, в это трудно поверить, ведь с окончания войны прошел уже целый год. Польша была освобождена год тому назад. Как же это возможно, чтобы доказательства до сих пор лежали в земле? Сколько они там пробудут?
Он с печальной задумчивостью покачал головой.
— Нужно время. Следы преступлений лежат в земле вместе с людьми. Ни один американец и даже ни один англичанин не знает проблем оккупации в такой степени, как мы. И тем более как вы. Союзники вообще легко поддаются внушениям и влияниям.
Я запротестовала:
— Вы не хуже меня знаете, что еще во время войны был опубликован список гитлеровских преступников в Париже, Москве, Лондоне и Вашингтоне.
— Верно. Но проблема совсем в другом. Лагеря пусты. Газовые камеры исчезли. Теперь каплю за каплей подмешивают красители к тем событиям. Химические реактивы.
Мне стало не по себе. Неужели Нюрнбергский процесс — это нечто совсем не то, что я себе представляла? Я глядела на пол, на круг света от лампы, вокруг было темно, и мне вдруг вспомнилась самая страшная сказка моего детства — о ведьме, которую не останавливают никакие препятствия, которая взламывает двери домов, открывает могилы, обгрызает человеческие кости, издевается над молитвами и заклинаниями. Я смотрела на свои ноги в туфлях, купленных на Котиковой улице в Варшаве, на них падал свет, но у меня не было сил сдвинуться с места, впрочем, я понимала, что это не имеет смысла: ведьма, с которой мне выпало встретиться лицом к лицу во время этой войны, была куда чудовищней той, со страниц детской, в мягком переплете книги. Эта ведьма была повсюду, в обличьях разных людей, иногда даже целых толп, иногда же отдельных красавцев мужчин или нежных женщин, про которых никто бы не догадался, что они способны пустить ее в себя.
Вот, например, Aufseherin[6] Грези, милая девятнадцатилетняя мадонна с огромным пучком светлых волос, оттягивающих назад голову, с нежным профилем камеи, с мечтательной улыбкой на устах, которая, зажав в миниатюрном кулачке хлыст, лупила по лицам мужчин, узников концентрационного лагеря. Я видела это. Эта картина и сейчас у меня перед глазами.
— Я вижу это, — прошептала я, к счастью, совсем неслышно.
Если в день окончания войны ведьма ушла из этих людей так же, как из Адольфа Гитлера жизнь, как вытекла кровь из Геббельса, то уже легче: мы очнулись от кошмара. Но только, кто скажет, не спрятались ли в садах среди листвы, в лесных кустарниках или там, куда на рассвете уходит с земли темнота, чтобы вернуться на следующую ночь, какие-то воплощения этой ведьмы?
Буковяк прервал мои мысли:
— Ну а как, собственно, вы добрались? Мы вас ждали, не могли дождаться. Я слышал, вы летели с приключениями?
Я кивнула, пытаясь жизнерадостно улыбнуться. Когда он обратился к нам, прибывшим из Варшавы, в голосе его зазвучали теплые нотки:
— Как ваше здоровье? Самочувствие? Что слышно в столице?
Кому-то надо ответить, но доктор Оравия что-то записывает, а узник Треблинки не раскрывает рта, поэтому я заставляю себя ответить и слышу свой изменившийся голос:
— Жизнь идет. А это самое главное.
Он покивал головой.
— Жизнь идет, говорите. Да-да…
Он повернулся вместе со своим вертящимся креслом, постучал в дверь возле письменного стола:
— Пан Михал! Вы тут? Сколько можно вас звать?
Из-за двери никто не ответил.
— Жизнь идет. — Он снова покачал головой. Буковяк говорил почти шепотом, и я нагнулась, чтобы лучше расслышать. — Впереди вам видятся далекие горизонты, а это просто зеркала, они и создают впечатление глубины и пространства. В молодости все поддаются этой иллюзии — и разбазаривают время, думая, что перед ними целая жизнь! Это ведь так много! Правда? Вот жизнь и идет. Пока она есть.
Я молчала. Прокурор Буковяк поднял очки на лоб, протер уголки глаз.
— Ну что ж. Вы вблизи видели, что такое бесконечность. И все же это не лишает вас права верить, что вся жизнь — непрерывное бытие. Но с того места, где стоит сейчас Ганс Франк и остальные подсудимые, виден лишь маленький кусок жизни. Зеркала исчезли.
Он развел руками, черты лица его были суровы.
— Их время съеживается с каждым днем, с каждой неделей.
Он снова повернулся, резко и долго стучал, потом прислушался, склонив голову.
— Пан Михал! Вы слышите меня?
Скрип открывающейся двери вывел меня из задумчивости. Я выпрямилась.
Буковяк, сощурившись, смотрел перед собой.
— Ну вот наконец и пан Грабовецкий. Входите, входите, пан Михал, мы еле вас дождались.
Но вошел Илжецкий, румяный и свежий, как после сна. Он остановился в дверях.
— Вы позволите мне зажечь верхний свет? — спросил он, поворачивая выключатель.
Хотя загорелся лишь матовый шар над зеркалом, в комнате стало намного светлее. Только теперь я увидела, насколько комната Буковяка потеряла сходство с гостиничным номером, превратившись в рабочий кабинет. Сумрак по-прежнему таился в углах, лампа с зеленым абажуром над столом, заваленным бумагами, отбрасывала свет на щеку Буковяка. Она была бледная, худая, и казалось, в складках увядшей кожи прячется несмываемая, глубоко впитавшаяся грязь войны, осадок гитлеровской оккупации. Зеленоватый свет подчеркивал старость и утомленность этого человека. Неужели ему всего лишь сорок восемь лет?

Эта повесть результат литературной обработки дневников бывших военнопленных А. А. Нуринова и Ульяновского переживших «Ад и Израиль» польских лагерей для военнопленных времен гражданской войны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Владимир Борисович Карпов (1912–1977) — известный белорусский писатель. Его романы «Немиги кровавые берега», «За годом год», «Весенние ливни», «Сотая молодость» хорошо известны советским читателям, неоднократно издавались на родном языке, на русском и других языках народов СССР, а также в странах народной демократии. Главные темы писателя — борьба белорусских подпольщиков и партизан с гитлеровскими захватчиками и восстановление почти полностью разрушенного фашистами Минска. Белорусским подпольщикам и партизанам посвящена и последняя книга писателя «Признание в ненависти и любви». Рассказывая о судьбах партизан и подпольщиков, вместе с которыми он сражался в годы Великой Отечественной войны, автор показывает их беспримерные подвиги в борьбе за свободу и счастье народа, показывает, как мужали, духовно крепли они в годы тяжелых испытаний.
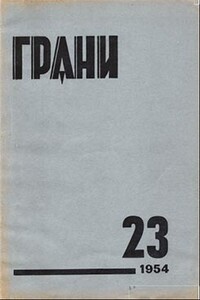
Рассказ о молодых бойцах, не участвовавших в сражениях, второй рассказ о молодом немце, находившимся в плену, третий рассказ о жителях деревни, помогавших провизией солдатам.

До сих пор всё, что русский читатель знал о трагедии тысяч эльзасцев, насильственно призванных в немецкую армию во время Второй мировой войны, — это статья Ильи Эренбурга «Голос Эльзаса», опубликованная в «Правде» 10 июня 1943 года. Именно после этой статьи судьба французских военнопленных изменилась в лучшую сторону, а некоторой части из них удалось оказаться во французской Африке, в ряду сражавшихся там с немцами войск генерала де Голля. Но до того — мучительная служба в ненавистном вермахте, отчаянные попытки дезертировать и сдаться в советский плен, долгие месяцы пребывания в лагере под Тамбовом.

Ященко Николай Тихонович (1906-1987) - известный забайкальский писатель, талантливый прозаик и публицист. Он родился на станции Хилок в семье рабочего-железнодорожника. В марте 1922 г. вступил в комсомол, работал разносчиком газет, пионерским вожатым, культпропагандистом, секретарем ячейки РКСМ. В 1925 г. он - секретарь губернской детской газеты “Внучата Ильича". Затем трудился в ряде газет Забайкалья и Восточной Сибири. В 1933-1942 годах работал в газете забайкальских железнодорожников “Отпор", где показал себя способным фельетонистом, оперативно откликающимся на злобу дня, высмеивающим косность, бюрократизм, все то, что мешало социалистическому строительству.