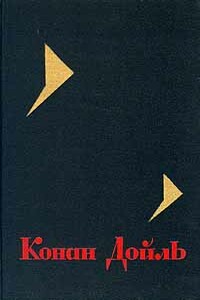Невинный Пруденций - [3]
В людях прокатило рокотом тихим:
— Да, это самое лучшее. Все так согласны, и пусть так и будет, ежели только вдова Ефросина на это согласна.
Вдова сидела с поникшей головою и отвечала:
— Я горем убита и полагаюсь на общее мнение. Тогда все решили, что Алкей должен взять к себе в дело Пруденция и обучить его торговле и всей морской жизни, а когда Пруденций придет в возраст, тогда с ним разделить все, что нажито вместе с Гифасом и что вперед им придется еще к нажитому прибавить.
Против этого только вдова Ефросина заметила, что сын ее еще очень молод, чтобы вверять его морю и обрекать на все случайности; но Пруденций едва это услышал, как сам стал проситься, чтобы мать его отпустила с Алкеем, и вдова Ефросина, согласилась его отпустить, а Алкей не имел никаких оснований для того, чтобы уклониться от приема Пруденция, подал ему руку и сказал:
— Клянуся богами, я рад, что люди решили, чтобы ты стал мне товарищем вместо своего отца. А тебе, госпожа Ефросина, я здесь обещаю пред всеми людьми и пред небом, что я всегда буду помнить, как тебе дорог твой единственный сын, и стану жалеть и беречь его юные силы. Ты же не бойся: и море не всегда ведь сурово — оно часто даже хранит от зол человека, особенно юность, в пору которой скоро вступит Пруденций; воздух и море дадут ему крепость мышц и смелость духа, и, что не меньше того драгоценно, — они сохранят его целым от ранних соблазнов любви, расслабляющих тело и душу. А затем он увидит много иноземных чудес, искусится в познанье людей, усвоит себе познанья в торговле, и тебе будет отрадно видеть, как через него в дом твой снова польются достатки, и когда он в свободное время присядет у твоего очага, ты сама, поворачивая над углями вертел с дымящимся мясом, насладишься тем, как будут все Пруденция слушать.
V
Ефросина более не возражала, и Пруденций ушел в море с Алкеем, и с этой поры мореходство стало для него постоянным занятием, в котором он в самом деле скоро окреп, так что в пятнадцать лет был похож на семнадцатилетнего юношу, а в семнадцать совсем смотрел взрослым мужчиной, и был он красив на удивленье и при этом стыдлив и совсем целомудрен.
Алкею не было выгоды выхаживать Пруденция, и он втайне очень бы рад был от него избавиться, чтобы сокрыть все свои пути и места, где у него были в чужих портах склады, но он не хотел, чтобы Пруденций исчез так же, как исчезнул Гифас, потому что одинакие случаи два раза кряду могли повести к подозрению, и суд простых рыбаков родного поселка мог быть слишком суров для Алкея, но Алкей сделал все, что только мог, чтобы растлить душу Пруденция, и когда они заходили в чужие порты, Алкей его поощрял пить вино и оставлял в сообществе соблазнительных женщин, которым обещал хорошую цену за то, чтобы отогнать от Пруденция скромность и увлечь его в порочную страстность. Но все это было напрасно: какой-то хранительный гений до того неприкосновенно охранял юношу от всех соблазнов и поползновений, свойственных его возрасту, что сами соблазнительницы, которым Алкей предавал целомудренного юношу, дали ему название «Невинный Пруденций».
Но отчего же он, при всей своей юности и красоте, поражавшей множество женщин, был так недоступен никаким их соблазнам?
Женская влюбленность в Пруденция доходила до таких безумных проявлений, что раз, когда ему и Алкею случилось пристать на мысе у города Книда[1], самая красивая девушка этого городка кинула в Пруденция из-за скалы острым бронзовым осколком и, не попав в голову, так тяжело ранила его в плечо, что он упал, обливаясь кровью, а она в это же время бросилась в море.
Рана, нанесенная безумною книдянкою, была очень тяжела и так долго не заживала, что Алкей привез Пруденция к вдове Ефросине больного, в перевязках, и случай этот, огласившись в целом поселке, восстановил в памяти многих случай с Гифасом и дал повод нехорошо говорить об Алкее.
Разговоры в таком роде распространялись быстро и прежде всех дошли до слуха темнолицей невольницы Мармэ, которая, как сказано выше, была молодая и в своем роде тоже очень красивая девушка и очень любила Мелиту.
— Госпожа! — сказала она, находясь вдвоем вечером в бане с Мелитой. — В народе разносят очень странные речи; мой долг предупредить тебя о том, что в этих речах, кроме сына вдовы Ефросины, много такого, что касается тоже тебя и твоего мужа, а моего господина, Алкея.
— Что же это такое?
— Вот что: все знают, что красивый Пруденций пришел уже в самый расцвет своей красоты и здоровья, а меж тем он до сих пор остается невинней ребенка…
— Да, быть может это и так, но ведь это меня нимало не касается, и я думаю, мне об этом совсем лишнее знать…
— О нет, это не лишнее для тебя, госпожа!
— А я могу тебя уверить, усердная Марема, что это до меня совершенно не касается и даже нимало меня не занимает.
— Это тебя должно занимать!
— Почему?
— Неужели ты не понимаешь?
— Не понимаю, и откровенно скажу, это мне совсем неприятно… Для чего мне знать эти вести о том, как себя держит Пруденций? Для чего все вы стараетесь сделать мне все это известным?
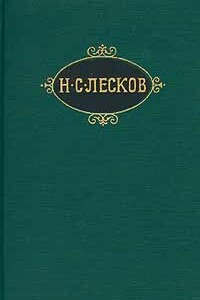
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
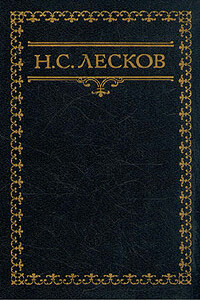
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
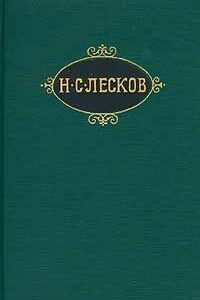
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
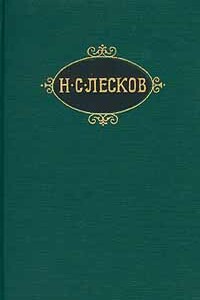
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
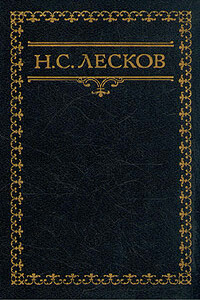
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.
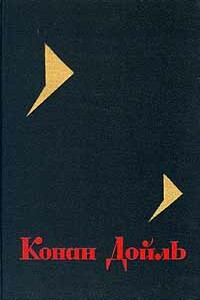
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
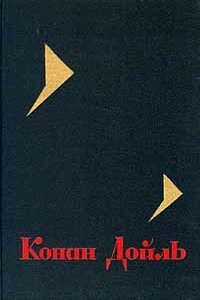
Рассказ «Горбун» из сборника «Записки о Шерлоке Холмсе».Полковника Барклея нашли мертвым после сильной размолвки с женой, лежащим на полу с размозженным затылком. Его жена без чувств лежала на софе в той же комнате. Но как объяснить тот ужас, который смерть запечатлела на лице полковника? И что за животное оставило странные следы на полу и портьерах комнаты?..