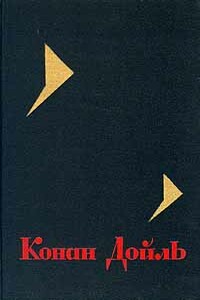Невинный Пруденций - [4]
— Кто же все, госпожа?
— Например, вдова Ефросина.
— Ага! это понятно. А еще кто, госпожа, говорил с тобой об образе жизни стыдливого сына Гифаса?
— Представь, мне говорил это муж мой Алкей.
— Сам Алкей?
— Да.
— Он тоже имеет причины.
— Он мне их не сказал.
— И это понятно.
— А мне ничто не понятно, — отвечала Мелита и тотчас же добавила с доброй улыбкой: — а если Мармэ известно более, чем ее госпоже, то это потому, что тут, верно, есть что-нибудь, что касается больше Мармэ, чем Мелиты.
— О, совсем наоборот, — так же с улыбкой отвечала Марема, — не я, а ты, моя госпожа, живешь в целомудренном сердце невинного Пруденция.
— Что говоришь ты!.. Опомнись, что ты сказала, Марема!
— Я сказала только то, что для меня очевидно и что как раз так и есть, как я сказала. И поверь мне, госпожа, что это не мне одной кажется так.
— Кто же еще смеет так думать?
— Смеет!.. Ты смешно говоришь: для чего тут особая смелость? Всякий, даже против желания, должен подумать о том, что перед ним является с такой же очевидностью, как страстная влюбленность в тебя невинного Пруденция.
— Ты клевещешь разом на всех нас, Мармэ, и я бы хотела, чтобы ты выпустила это из своей головы и никогда более к подобному разговору не возвращалась.
— Запретить говорить мне ты можешь, и я буду тебе повиноваться, но «выпустить из головы»… Нет, ты требуешь невозможного дела!.. И притом, если я буду молчать, я не открою тебе всего, что угрожает…
— Кому?
— Кому? Странный вопрос! Всем, кто тебе дорог:
Алкею, Мелите, вдове Ефросине и самому невинному Пруденцию, который не может жить долго без перелома в душе его, если не произойдет отвлечения его мыслей куда-нибудь вдаль от всего, что слилось для него в одном сладостном звуке твоего имени. О госпожа! Или ты в самом деле дитя, несмотря на довольно долгие годы замужества с Алкеем, или же ты самая большая и искусная притворщица в свете!.. Разве не видишь ты, как он глядит на тебя, так, что всякому видно, что он постоянно весь полон тобою…
— Я этого не вижу.
— Ты не видишь, но вижу я, и видит мать его, вдова Ефросина, у которой он спит, положив голову ей на колени, а уста его в тихом бреду произносят шепотом сладчайшее слово: «Мелита»… Вдова Ефросина тоже ведь женщина, и она не может не догадаться, что это значит… Я думаю, что если бы твой муж, засыпая у тебя на коленях, стал тихо шептать имя посторонней женщины, то хотя бы это имя значило не более, чем имя Маремы, — ты бы догадалась, что господин мой зовет меня не для таких услуг, которые я обязана исполнить ему все при твоем лицезренье.
— Право, я никогда об этом не думаю.
— Верю! И зачем бы ты стала думать, когда твое сердце нимало не уязвлено страстью…
— Что ты хочешь сказать? — перебила Мелита, — или, по-твоему, я не люблю своего мужа?
— Нет; ты любишь Алкея, как мужа, и на мужнину долю этого чувства довольно; но Алкей ведь недаром имеет такие глаза, которые могут сразу в разные стороны видеть… Зачем он тебе рассказал про стыдливость этого юноши, который пламенеет к тебе первою страстью?.. О, я не была при том, как вы об этом говорили, но я будто слышу вкрадчивый тон Алкеева голоса; я знаю наверно, как он с шуткой мешал яд своих подозрений…
— Алкей это все рассказал мне в самом деле смеясь.
— И ты приняла его смех за веселость!.. Ты верила ему, что он шутит?!
— Почему же не верить?
— О, это забавно! Однако это сохранило тебя от большей опасности; но она все-таки придет: я вижу мрачный огонь в разлете скошенных зрачков твоего мужа, и не как твоя рабыня, а как друг твой, у которого все благополучия сопряжены с твоею жизнью, — я заклинаю тебя, Мелита: сними повязку с твоих прекрасных глаз — вглядись в то, что произошло, с отвагой женщины, понимающей опасность, и обдумаем, что нам делать, чтобы не произошло бедствия.
— В каком роде беды ты ожидаешь, Марема?
— В том самом роде, в каком кончилось дело жизни Гифаса.
— О, справедливое Небо! Неужто и ты, Мармэ, подозреваешь…
— Что ты, что ты, моя госпожа! Я столько же склонна что-нибудь подозревать, сколько желаю быть продана от тебя в каменоломни на скалы, но я тебе указываю в ту сторону, где небо краснеет и откуда слышится приближение бури… Будь осторожна… не выдай себя Алкею ни звуком, ни взглядом.
— Да мне нечего и скрывать… Я учила Пруденция — правда, по дружбе моей к вдове Ефросине, и ласкала его тогда как ребенка, но я не сказала ему шепотом ни одного слова, никогда я не обвела его взором нежнее, чем должна смотреть дружба, и я уверена, что если вдова Ефросина спросит Пруденция, то и он ей не скажет, чтобы я была виновата в тех чувствах, о которых ты мне теперь рассказала… Я же при встрече скажу ему, чтобы он перестал обо мне думать, что это тяжело мне… обидно… и… если только все правда, что ты говорила, то он будет напрасно тратить свои лучшие годы…
— Отчего?
— Как отчего?
— Ты разве не женщина?
— Да, я женщина… но что же следует дальше?
Марема улыбнулась и сквозь улыбку сказала:
— Мы все чутки сердцем… а ты так сострадательна…
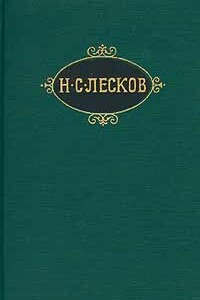
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
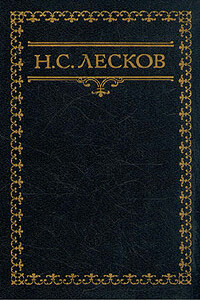
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
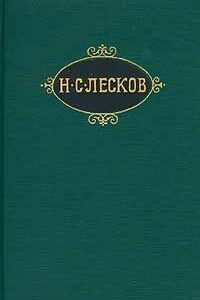
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
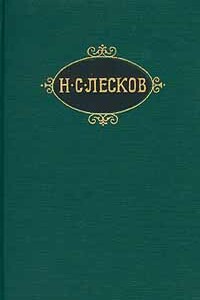
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
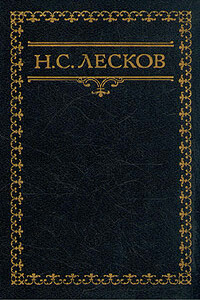
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.
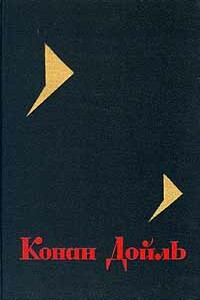
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
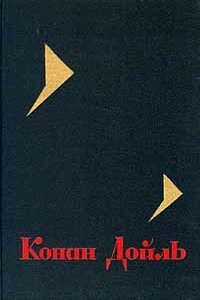
Рассказ «Горбун» из сборника «Записки о Шерлоке Холмсе».Полковника Барклея нашли мертвым после сильной размолвки с женой, лежащим на полу с размозженным затылком. Его жена без чувств лежала на софе в той же комнате. Но как объяснить тот ужас, который смерть запечатлела на лице полковника? И что за животное оставило странные следы на полу и портьерах комнаты?..