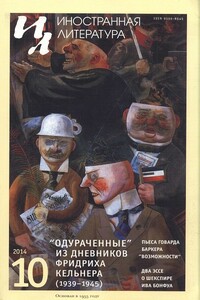Невероятное (избранные эссе) - [56]
Но Иван на этом и останавливается, замыкаясь в пассивности нигилистического искушения, возрождающего ход мыслей апостола Павла: «Если мертвые не воскресают, станем есть и пить». Если мертвые всего-навсего воскресают и только, мог бы сказать Иван, то все дозволено. И Шестову тоже пришлось пройти через это безысходное противоречие человеческой рефлексии, но он с исключительным благородством и дерзновением «бросил на карту все», решив добиться от Бога, чтобы тот ниспроверг свой собственный образ, потому что этот образ не согласуется с нашими представлениями о милосердии. Если ничто не может искупить детские слезы — хорошо, пусть тогда сделается так, что их и вовсе не было, и пусть Бог сумеет так сделать? Как мы видим, в этом своем требовании Шестов ушел дальше любого другого. Кого из современных мыслителей — если не считать Батая, способного его понять, но не следовать за ним, — можно поставить рядом с Шестовым, когда, словно одержимый павловским «безумием» в квадрате, он призывает этого Бога, абсолютно свободного, — когда он проповедует этого неведомого Бога?
Так или иначе, он отстаивает свою веру с упорством, которому не страшен никакой противник и которое, что и говорить, оставляет очень сильное впечатление. Особенно удивительны страницы, подводящие итог его глубоким размышлениям, — когда в череде утверждений, сменяющих друг друга, ощущается все больший накал искренности, когда сердце пишущего открывается до конца. Ошеломляющие повороты мысли — но они не имеют ничего общего с чисто словесной изощренностью, с писательским «мастерством». Эти проповеди, у которых никогда не было ни храмов, ни прихожан, гремят там, куда не досягает никакая догма и, осмелюсь утверждать, никакая вера. Но хотя Шестову достает внутреннего величия, чтобы, не впадая в экстравагантность, вполне успешно справляться с этой непомерной ролью отрицателя всякого разума, всякого благочестия и, разумеется, какой бы то ни было церкви, все же пространство, в котором звучат раскаты его мужественного голоса, нельзя счесть тем пространством движущихся горных вершин, где должен был, самое меньшее, показаться ожидаемый им освободитель. Чувствуется, что и его со всех сторон обступили глухие стены, что он тоже остается в вечных теснинах логизирования. И этот явно свободный, по меркам других людей, человек, без сомненья, сознает, что так и не вышел из тюрьмы.
Ведь Шестов — и это уж как по определению, в противном случае разверзлись бы небеса — не в силах вообразить себя имеющим даже горчичное зерно истинной веры, которого довольно, чтобы сдвигать горы, чтобы человек, забыв о добре и зле, мог слиться с Богом. Именно в этом жесточайшее испытание, заставляющее его склонить голову. «Обычная» вера есть ожидание, поэтому она благополучно существует среди отрицания, которым ее встречает мир, но та вера, которой поручает себя Шестов, вера, стремящаяся к немедленному освобождению, не может пребывать в ожидании иначе как признавая свое крушение, отрицая себя как таковую, как веру. Не отсюда ли его сомнения, и не только в собственных силах, но и в правильности выбранного пути? Может быть, мы нашли разгадку; во всяком случае, нам нужно не упустить из виду определенные знаки, которые Шестов, конечно, и не думает скрывать, — знаки, проступающие в ключевых точках его наиболее смелых размышлений.
Таковы, в частности, некоторые места на последних страницах «Мудрости и откровения». Нужно ли вновь вызывать в памяти этот могучий, пророческий голос? «"Факт", «данное», «действительность» не господствуют над нами, не определяют нашей судьбы, — ни в настоящем, ни в будущем, ни в прошлом. Бывшее становится небывшим…» Впрочем, тут же звучит и более человеческая нота: «Религиозная философия есть рождающееся в безмерных напряжениях всех сил, через отврат от знания, через веру, преодоление ложного страха>{163} перед ничем не ограниченной волей Творца». Итак, вера, в которой нуждается человек, предстает наградой, венчающей какое-то усилие. Но разве это усилие само по себе не требует веры — в качестве своего необходимого условия? Если присмотреться. Шестов нередко склоняется к тому, чтобы отделить себя самого от предполагаемого свидетеля веры, который должен положить начало естественному осуществлению бытийной полноты. Он спрашивает: «Жил ли когда-нибудь на земле человек>{164}, которому дано было преодолеть немоту того огромного мира, звеньями которого являемся, по учению мудрецов, все мы?». И когда он цитирует Кьеркегора, считавшего, что «верить вопреки разуму есть мученичество», что для веры необходимо мужество, то делает замечание, из которого нетрудно понять его собственное состояние: «Мужество тут ни при чем; скорее, нужно мужество, чтобы от веры отказаться»>{165}.
Судя по всему. Шестов достаточно быстро пришел к убеждению, оказавшемуся, увы, столь же неоспоримым, какой должна была бы стать вожделенная свобода: ему самому никогда не удастся испытать радости освобождения. Сократик по своей обращенности к прямому, ближайшему опыту, он останется им и в своей судьбе. Он такой же пленник, как Лютер, как Кьеркегор. И, вне всякого сомнения, главное в его сочинениях, развивающих одни и те же мысли, их подлинная реальность — это само то время, в течение которого, принимая вид безостановочной полемики, выражает себя потребность оттянуть, отодвинуть на более поздний срок — как только будет кончена работа по опровержению ложного мышления — момент, когда единственной задачей и непосредственным переживанием писателя сможет наконец сделаться мышление истинное. Шестов нападает, чтобы выгадать для себя передышку, может быть, надеясь, что опровержение заблуждений внезапно обернется прорывом к желанной для него свободной воле. Однако то, что должно было бы помочь ему вырваться из времени, втягивается обратно, во время. Его война против времени сама становится частью времени — истекшего, утраченного; становится временем, которое накапливается в сознании, меркнет, превращается в объект (именно в «сочинение», не иначе), прирастает, покорное небытию, словно внутренняя форма того Фатума, что разоблачается Шестовым извне. И, если разобраться, далеко не пророк, но человек, полный сомнений и, может быть, даже угрызений совести («у меня нет веры, — признавался он Борису Шлецеру, — но я знаю, что с моей стороны это слабость»), говорит в Шестове, когда он обращается со своими вопросами к тем немногим умам, которых считает пробужденными ангелом смерти.

«…Итак, желаем нашему поэту не успеха, потому что в успехе мы не сомневаемся, а терпения, потому что классический род очень тяжелый и скучный. Смотря по роду и духу своих стихотворений, г. Эврипидин будет подписываться под ними разными именами, но с удержанием имени «Эврипидина», потому что, несмотря на всё разнообразие его таланта, главный его элемент есть драматический; а собственное его имя останется до времени тайною для нашей публики…».

Рецензия входит в ряд полемических выступлений Белинского в борьбе вокруг литературного наследия Лермонтова. Основным объектом критики являются здесь отзывы о Лермонтове О. И. Сенковского, который в «Библиотеке для чтения» неоднократно пытался принизить значение творчества Лермонтова и дискредитировать суждения о нем «Отечественных записок». Продолжением этой борьбы в статье «Русская литература в 1844 году» явилось высмеивание нового отзыва Сенковского, рецензии его на ч. IV «Стихотворений М. Лермонтова».

«О «Сельском чтении» нечего больше сказать, как только, что его первая книжка выходит уже четвертым изданием и что до сих пор напечатано семнадцать тысяч. Это теперь классическая книга для чтения простолюдинам. Странно только, что по примеру ее вышло много книг в этом роде, и не было ни одной, которая бы не была положительно дурна и нелепа…».

«Вот роман, единодушно препрославленный и превознесенный всеми нашими журналами, как будто бы это было величайшее художественное произведение, вторая «Илиада», второй «Фауст», нечто равное драмам Шекспира и романам Вальтера Скотта и Купера… С жадностию взялись мы за него и через великую силу успели добраться до отрадного слова «конец»…».

«…Всем, и читающим «Репертуар» и не читающим его, известно уже из одной программы этого странного, не литературного издания, что в нем печатаются только водвили, игранные на театрах обеих наших столиц, но ни особо и ни в каком повременном издании не напечатанные. Обязанные читать все, что ни печатается, даже «Репертуар русского театра», издаваемый г. Песоцким, мы развернули его, чтобы увидеть, какой новый водвиль написал г. Коровкин или какую новую драму «сочинил» г. Полевой, – и что же? – представьте себе наше изумление…».

«Имя Борнса досел? было неизв?стно въ нашей Литтератур?. Г. Козловъ первый знакомитъ Русскую публику съ симъ зам?чательнымъ поэтомъ. Прежде нежели скажемъ свое мн?ніе о семъ новомъ перевод? нашего П?вца, постараемся познакомить читателей нашихъ съ сельскимъ Поэтомъ Шотландіи, однимъ изъ т?хъ феноменовъ, которыхъ явленіе можно уподобишь молніи на вершинахъ пустынныхъ горъ…».