Несобранная проза - [17]
– Что вы у меня переночуете, это, конечно, неважно, – сказал я, – но вот что прошу объяснить, милый друг: ведь, в сущности, никакой ссоры у вас не происходило, и ваше прежнее пристанище к вашим услугам, как и всегда, почему же вы оттуда ушли?
Федя как будто смутился и отвечал бойко, даже слегка сердито:
– Официально, конечно, никакой ссоры не происходило, но оставаться там я не хочу и не могу.
– Может быть, вы мне объясните почему? – Потому что мне там очень неудобно и несносно.
– Значит, это вы находите тягостным пребывание там?
– Да, конечно, а как же иначе?
Феде будто и в голову не приходило, что кто-нибудь может тяготиться его присутствием.
– Да, это мне было неудобно. Я твердо решил уйти оттуда, куда угодно, хотя бы в ночлежный дом.
– Ну, этот романтизм можно бы и по-боку, потому что он интересен только в книгах, а на деле далеко не так занимателен. Вам, конечно, там не место и, покуда у вас есть хотя один знакомый, вас до этого не допустят.
– А, вот, допустили же, и не только знакомые, а так-называемые друзья.
– Вы говорите вздор. Никто вас не допускал и, конечно, не допустят, если вы сами не пожелаете делать глупостей.
– А если мне приятнее ночевать в ночлежном доме, чем у разных дурацких мещан?
– Это, – отвечаю, – конечно, воля ваша, никто вам запретить не может.
– Да, я думаю, что запретить мне никто не может.
– Никто вам запрещать и не собирается, только там насекомых очень много.
– Где это?
– Да в ночлежке-то.
– А мне наплевать! Лучше пускай меня блохи едят, чем мне на хамские рожи смотреть.
– Опять-таки это дело вкуса. Только уже тогда не жалуйтесь на свою судьбу тем же самым хамам, которых вы презираете.
Но Федя моим словам не внял, а, взявши десять рублей, объявлил, что пойдет на скетинг и ночевать не вернется.
От знакомых моих он, действительно, ушел, и где обретался, никому не было известно. От времени до времени с разными подозрительными посланцами он доставлял мне записочки, в которых просил то денег, то белья, то чаю, то папирос и, наконец, поздно вечером прислал клочок бумаги, где карандашом было написано, что он, Федор Николаевич Штоль, находится накануне большой перемены жизни и хотел бы меня повидать в последний раз, так как на завтрашнее утро он совершенно скроется с горизонта людей, которых принято считать порядочными и честными. Затем следовал адрес какого-то третьеразрядного трактира, в котором Федя назначал мне свидание. Не знаю почему, но это письмо не произвело на меня впечатления фанфаронады, наоборот, я даже подумал, что человек, даже по своей вине попавший в беду, может дойти до такой точки, что расшатается его равновесие, ослабеет привязанность к жизни, или воображение нарисует будущность более безвыходной, нежели она может быть, – и тогда человек способен на всякие «неблагоразумные» поступки. Мысль о каком-то несчастии так крепко сидела в моей голове всю неблизкую дорогу к подозрительному трактиру, что, поднявшись по пегому от грязи ковру во второй этаж, на чистую половину, первое, что спросил у швейцара, было:
– Ну, что, у вас все благополучно?
Он удивленно взглянул на меня и не сейчас ответил:
– Ничего, благодарю вас, все благополучно.
Был мертвый час торговли, и официанты за перегородкой закусывали стоя, не выпуская салфеток из-под мышек. Федя был единственным посетителем. Он сидел в пальто за пустым столом у окна и вертел в руках коробочку из-под пятка папирос.
– Ну, что же с вами случилось, Федор Николаевич, и отчего вы так сидите?
– Я не знал, согласитесь ли вы прийти на мою записку, а сижу я так потому, что денег у меня было всего три копейки, – вот, купил папирос. Ах, прошли те времена, когда я счета подписывал.
– Вы бы хотя пальто сняли.
Штоль, улыбнувшись, расстегнул слегка пальто и показал мне вязаную фуфайку, кроме которой на нем ничего не было надето.
– Еще от спортивного костюма осталась, – сказал он, снова застегиваясь и даже подняв воротник.
– Вы уже что-нибудь себе заказали?
– Нет, конечно. А есть я хочу страшно. Ведь, можно и вина спросить?
Получив разрешение, Федя долго рылся в прейскуранте и все ворчал, что в этом трактиришке нет каких-то особенных вин, которые он любил и привык будто бы пить. Одну минуту у него мелькнула даже мысль спросить шампанского.
– Проходя по Невскому, вы не обратили внимание, какое чудное белье выставлено в Жокей-Клубе? – неожиданно спросил он.
– Нет. Я несколько дней там не был.
– Когда немного поправлюсь своими делами, непременно заведу себе такое.
Я промолчал. Умолк и Федя, потому что в эту минуту лакей уже нес блюдо, все покрытое томатовым соусом.
– Какая гадость, когда крахмалят салфетки! – сказал Штоль и принялся за кушанье.
Ел он, действительно, как человек голодный, и даже прекратил свою воркотню. Я все ждал, что он объяснит мне, какое решение он принял, или, по крайней мере, будет изливаться в жалобах. Но Штоль, кажется, не собирался этого делать и, насытившись, опять завел разговор о каких-то запонках и концертах. Даже лицо его изменилось: исчезла известная тупость, и сквозь обрюзгшие щеки и припухлые глаза смутно выступал прежний облик миловидного мальчика из хорошей семьи. Очевидно, от выпитого вина он согрелся и, вдруг, расстегнув пальто и увидя свой спортивный костюм, он внезапно покраснел и проговорил безнадежно:

Повесть "Крылья" стала для поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина дебютом, сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви."Крылья" — "чудесные", по мнению поэта Александра Блока, некоторые сочли "отвратительной", "тошнотворной" и "патологической порнографией". За последнее десятилетие "Крылья" издаются всего лишь в третий раз. Первые издания разошлись мгновенно.
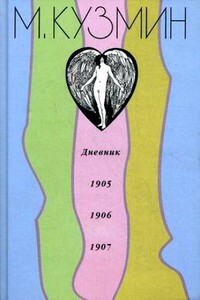
Дневник Михаила Алексеевича Кузмина принадлежит к числу тех явлений в истории русской культуры, о которых долгое время складывались легенды и о которых даже сейчас мы знаем далеко не всё. Многие современники автора слышали чтение разных фрагментов и восхищались услышанным (но бывало, что и негодовали). После того как дневник был куплен Гослитмузеем, на долгие годы он оказался практически выведен из обращения, хотя формально никогда не находился в архивном «спецхране», и немногие допущенные к чтению исследователи почти никогда не могли представить себе текст во всей его целостности.Первая полная публикация сохранившегося в РГАЛИ текста позволяет не только проникнуть в смысловую структуру произведений писателя, выявить круг его художественных и частных интересов, но и в известной степени дополняет наши представления об облике эпохи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
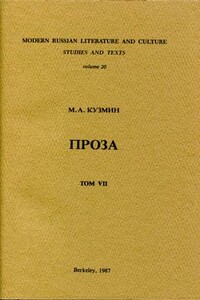
Собрание прозы Михаила Кузмина, опубликованное издательством Университета Беркли, США. В седьмой том собрания включены сборники рассказов «Антракт в овраге» (в виде репринта) и «Девственный Виктор». В данной электронной редакции тексты даются в современной орфографии.https://ruslit.traumlibrary.net.
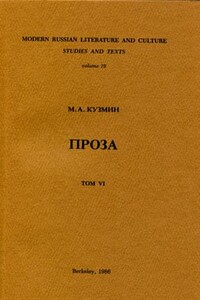
Собрание прозы Михаила Кузмина, опубликованное издательством Университета Беркли, США. В шестом томе собрания воспроизведены в виде репринта внецикловый роман «Тихий страж» и сборник рассказов «Бабушкина шкатулка». В данной электронной редакции тексты даются в современной орфографии.https://ruslit.traumlibrary.net.